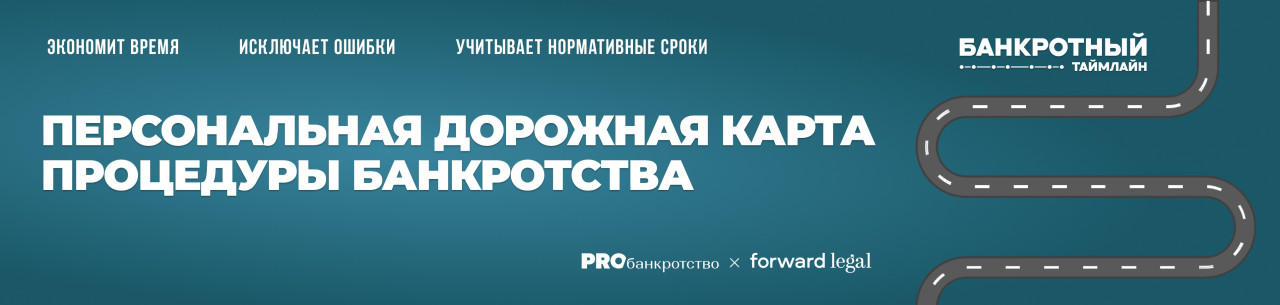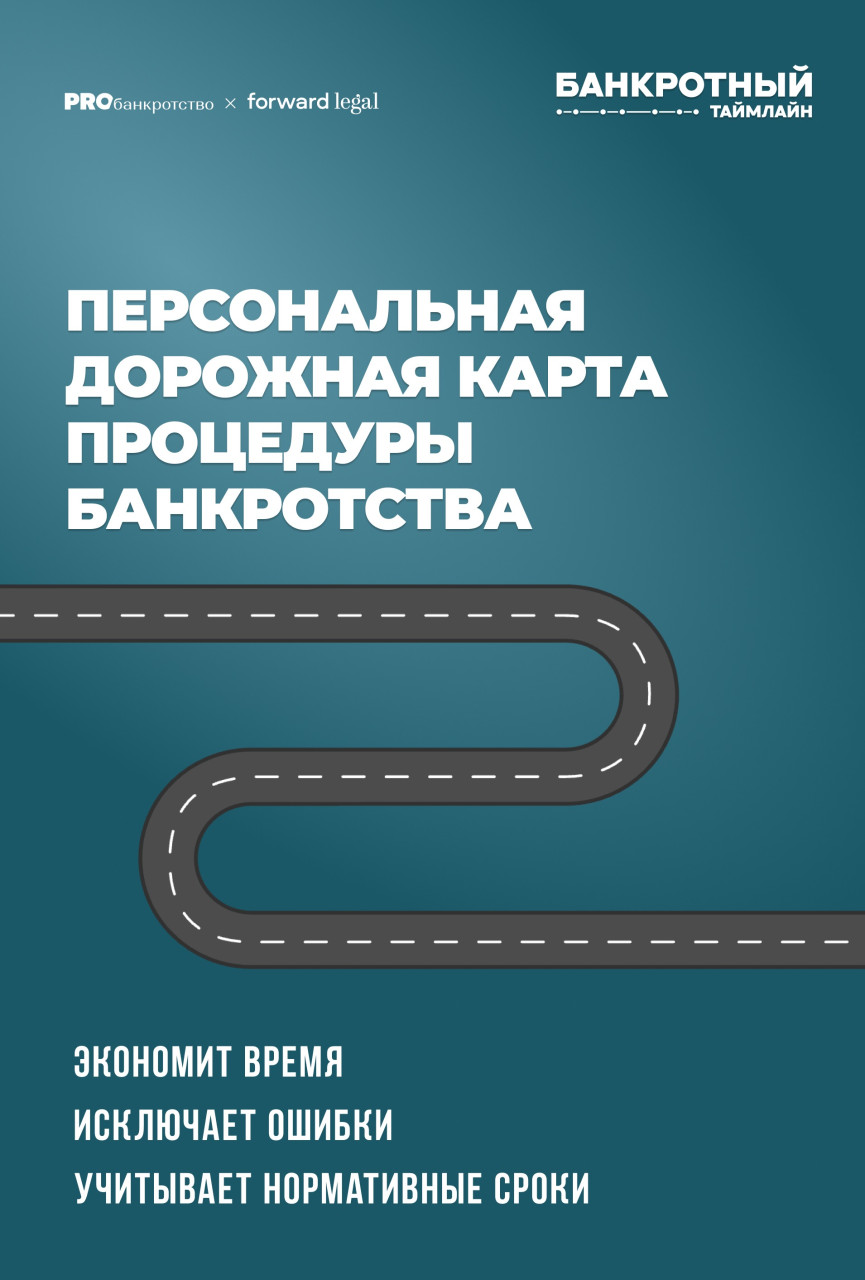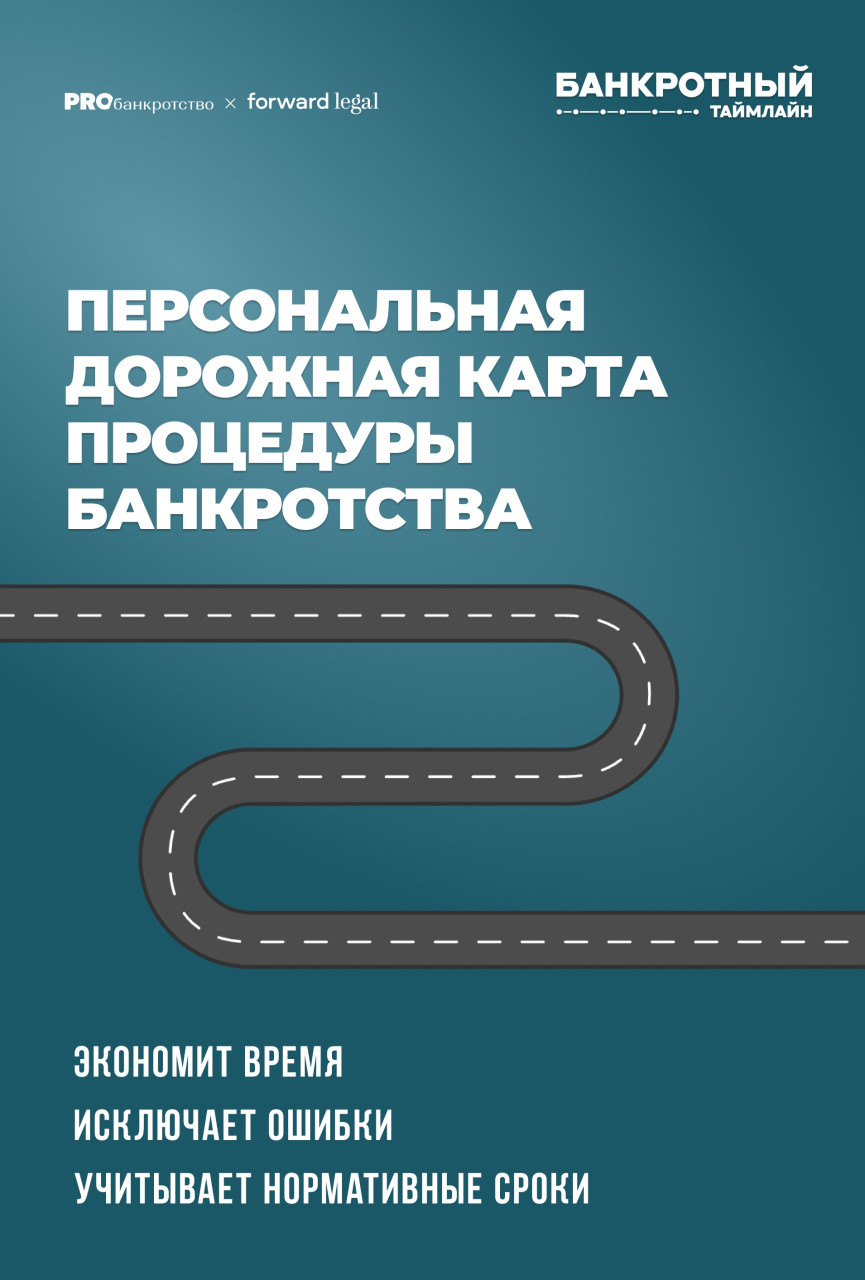Поводом к написанию настоящей статьи стало то, что в августе 2024 г. исполнилось десять лет с момента создания объединенного Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ). В то время при встраивании арбитражных судов в систему, возглавляемую ВС РФ, была попросту воспроизведена структура, существовавшая в судах общей юрисдикции.
Сразу хотел бы отметить, что ввиду специализации на арбитражном процессе я в качестве отправной точки избрал проблемы, существующие при применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
1. Проблема «второй» кассации
Проблема «второй» кассации не нова. Ее генезис состоит в многоуровневой системе надзора, которая была унаследована постсоветским гражданским процессом от советского права. Напомню, что в первоначальной редакции действующего Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) существовало три уровня надзора. Судебные акты могли быть обжалованы: в президиум суда регионального уровня, в судебную коллегию ВС РФ, а затем – в Президиум ВС РФ.
Однако с принятием Федерального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (вступил в силу 1 января 2012 г.; далее – Закон № 353-ФЗ) ситуация изменилась: взамен трех надзоров возникло две кассации и один надзор. Тем не менее содержательно мало что изменилось: вновь созданные кассации довольно сильно напоминали ранее существовавший надзор. Сохранилось предварительное рассмотрение жалоб на предмет их передачи для рассмотрения по существу, равно как и право должностных лиц суда (председателя и заместителя председателя) инициировать пересмотр судебных дел по собственной инициативе (Ярков В.В. Новеллы ГПК РФ: «новое вино в старые меха»? // Юридическая газета. 2011. № 1–2. С. 1–3).
Довольно серьезные изменения произошли в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым провозглашена «сплошная» кассация первого уровня (то есть кассационный суд общей юрисдикции теперь обязан рассматривать все поступающие к нему жалобы, соответствующие требованиям процессуального закона; предварительного отбора дел нет).
Это произошло ввиду создания девяти кассационных судов общей юрисдикции в соответствии с Федеральным конституционным законом от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».
В арбитражных судах, которые с 1992 по 2014 г. развивались независимо от судов общей юрисдикции, изначально была четырех-инстанционная система. При этом последовательно выдерживался принцип: «одно звено – одна инстанция». Как отмечает Т.К. Андреева, данный принцип призван гарантировать независимость одной инстанции от другой, поскольку их существование «под одной крышей» вызывает сомнения в беспристрастности судей каждой инстанции (Правовой чердак. Татьяна Андреева и АПК РФ // Youtube-канал «Проект Поддержка» / Отметка 29.15).
В арбитражной системе практически все дела были подсудны суду первой инстанции (за исключением дел о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или исполнение судебного акта в разумный срок).
Отмечу, что в гражданском процессе все сложнее: есть дела, подсудные мировому суду, есть дела, подсудные районному суду, есть дела, подсудные суду регионального уровня и т.п. (ст. 23, 24 и 26 ГПК РФ).
До августа 2014 г. с учетом вышеприведенного принципа в арбитражных судах была одна кассация, причем она работала по «сплошной» модели. Этим занимались созданные в 1995 г. десять окружных кассационных судов (Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»).
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее – ВАС РФ) с учетом принципа «одно звено – одна инстанция» содержал в себе только одну инстанцию – надзорную. Здесь важно вспомнить то, что изначально надзор, возникший в 1920-е гг., был нацелен на обеспечение контроля за деятельностью судов ряда должностных лиц, причем не только должностных лиц самой судебной власти, но и других органов.
В разное время правом инициировать надзорный пересмотр обладали генеральный прокурор, народный комиссар юстиции и т.п. (Новик-Качан М.Ю. Надзорное производство в гражданском процессе // Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2005. С. 17–24).
Однако в понимании ВАС РФ надзор заиграл совершенно иными красками: он использовался как институт развития права. Достаточно вспомнить, что Президиум ВАС РФ ввел в отечественную правоприменительную практику такие концепты, как прокалывание корпоративной вуали, восстановление корпоративного контроля, добросовестность залогодержателя и т.п. (см. постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. № 16404/11, от 3 июня 2008 г. № 1176/08, от 26 июля 2011 г. № 2763/11 и от 7 июня 2012 г. № 16513/11).
В результате в арбитражной системе до 6 августа 2014 г. было четыре инстанции: первая, апелляционная, кассационная и надзорная. Система была относительно простая и понятная.
Однако после указанной даты в арбитражной системе существует уже пять инстанций: первая инстанция, апелляционная инстанция, «первая» кассация (суд округа), «вторая» кассация (судебная коллегия ВС РФ) и надзор (Президиум ВС РФ). Соответствующие изменения были внесены в АПК РФ Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».
Более того, если учесть право Председателя ВС РФ и заместителей председателя ВС РФ инициировать как пересмотр дела в Судебной коллегии по экономическим спорам, так и в надзорном порядке в Президиуме ВС РФ, то выходит, что инстанций семь.
Избранная при реформе 2014 г. система была направлена на максимальную унификацию гражданского и арбитражного процессов, тем более, что в это время активно обсуждалась идея о принятии единого гражданского процессуального кодекса (Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 8 декабря 2014 г. № 124(1)).
Однако, с точки зрения реализации принципа правовой определенности, был сделан шаг назад.
Интересно, что в статье, опубликованной незадолго до ликвидации ВАС РФ, С.В. Сарбаш указывал на то, что, с точки зрения инстанционности, целесообразно существование четырех инстанций: первая инстанция и апелляция рассматривают вопросы фактов и права, кассация – только вопросы права, надзор – только вопросы единообразия в толковании права и развития права (Сарбаш С.В. Какая судебная реформа нам действительно нужна? Некоторые соображения (Тезисно) // Интернет-портал «Закон.ру»).
Как неоднократно подчеркивал Европейский Суд по правам человека (а его практика, сформированная до 16 сентября 2022 г., сохраняет свою актуальность), дело не может быть пересмотрено лишь ввиду наличия различных взглядов на один и тот же случай, на одну и ту же проблему (п. 52 постановления ЕСПЧ от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых против Российской Федерации»).
Но ведь на деле это происходит! Более того, если предположить существование десяти или даже двадцати инстанций, то последняя тем не менее найдет, чем заниматься. В конце концов никто не отменял необходимость обоснования своего собственного права на существование.
Мы часто восторгаемся свободомыслием ВС РФ, создавшего, например, субординацию в делах о банкротстве или провозгласившего концепцию фактической аффилированности (Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденный Президиумом ВС РФ 29 января 2020 г.; определение ВС РФ от 26 мая 2017 г. № 306-ЭС16-20056).
Однако высшая судебная инстанции именно потому настолько вольна в своих рассуждениях, что она последняя, и выше нее никого нет. Ощущение собственной «промежуточности» довольно серьезно сковывает мышление.
Интересно, что в Рекомендации Комитета министров Совета Европы государствам-членам относительно введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по гражданским и торговым делам от 7 февраля 1995 г. R (95) 5 (далее – Рекомендации) в принципе идет речь только о трех судебных инстанциях.
Рекомендации в целом исходят из того, что вопросы судебного спора должны определяться на уровне суда первой инстанции; именно суду первой инстанции должны представляться все возможные претензии, факты и доказательства (п. «а» ст. 2).
Рекомендации считают обязательным существование суда второй инстанции, поскольку должна быть возможность контроля за решением суда первой инстанции (п. «а» ст. 1). Однако из этого правила могут быть исключения, например, дела по искам на незначительные суммы или для промежуточных судебных актов (ст. 3).
Из п. «а» ст. 7 Рекомендаций следует, что суд третьей инстанции может в принципе не создаваться, поскольку в данном пункте делается оговорка: «если такой суд существует». Если подобный суд существует, то он должен заниматься развитием права или обеспечением единообразия судебной практики. При этом от заявителя жалобы, подаваемой в этот суд, можно требовать обоснования того, что его жалоба будет способствовать развитию права (п. «с» ст. 7 Рекомендаций).
В этом смысле существование в российской правовой системе пяти инстанций (или семи вместе со скрытыми инстанциями) выглядит как явный перебор. Конечно, можно обосновать существование четырех инстанций, как было в арбитражной системе до 6 августа 2014 г., но точно не больше.
Справедливости ради нужно признать, что двухуровневая кассация, существующая в гражданском процессе с 2012 г., признавалась эффективным средством правовой защиты в практике ЕСПЧ.
Впервые кассацию, организованную с учетом изменений, внесенных в ГПК РФ Законом № 353-ФЗ, ЕСПЧ оценивал в решении от 12 мая 2015 г. по вопросу приемлемости жалоб по делам «Роберт Михайлович Абрамян против Российской Федерации» и «Сергей Владимирович Якубовский и Алексей Владимирович Якубовский против Российской Федерации».
ЕСПЧ указал на то, что существование общего шестимесячного срока для обжалования решения как в первую, так и во вторую кассацию, равно как и наличие конкретных сроков для рассмотрения подобных жалоб, в значительной мере способствует соблюдению принципа правовой определенности, поскольку теперь становится известным, когда заканчивается судебный процесс (п. 80).
В п. 93 указанного постановления подчеркнуто, что кассация, организованная по новым правилам, признается обычным обжалованием по вопросам права, аналогичным тому, что существуют в других европейских странах.
Относительно «второй» кассации в ВС РФ ЕСПЧ высказался чуть менее определенно.
С одной стороны, Суд в качестве ее плюса обратил внимание на то, что вторая кассационная жалоба подается в другой суд – ВС РФ, который занимается обеспечением единообразия судебной практики на территории всей страны (п. 88), но, с другой стороны, ЕСПЧ подчеркнул, что его будущие выводы относительно «второй» кассации во многом будут зависеть от того, насколько реален будет доступ к ВС РФ, а также от неукоснительного соблюдения в правоприменительной практике правил о сроках подачи жалоб (п. 95).
Однако само существование четырех инстанций признано приемлемым и соответствующим мировой практике (п. 94).
Надзор, организованный по правилам ГПК РФ, со стороны ЕСПЧ, как и ранее, был признан неэффективным средством правовой защиты (п. 102, 103).
Как представляется, выводы, сделанные ЕСПЧ применительно к ГПК РФ в редакции, действовавшей с 1 января 2012 г., вполне могли бы быть экстраполированы на кассационные инстанции, организованные по правилам АПК РФ в редакции, действующей с 6 августа 2014 г.
Разница между кодексами тогда состояла в том, что в ГПК РФ был установлен один совокупный срок в шесть месяцев для кассационного обжалования в президиум суда субъекта Российской Федерации, а затем в судебную коллегию ВС РФ (ч. 2 ст. 376 ГПК РФ), а в АПК РФ – два самостоятельных срока для обжалования в первую и во вторую кассации (ч. 1 ст. 276 и ч. 1 ст. 291.2 АПК РФ).
Но ввиду того, что сроки для обжалования по АПК РФ не слишком продолжительные (по два месяца на каждый из двух уровней кассации), а также по причине того, что указанным Кодексом установлены сроки для рассмотрения жалоб в обоих кассациях (три и два месяца), думаю, что подобный подход соответствует принципу правовой определенности в его понимании ЕСПЧ.
К слову, в действующей редакции ГПК РФ также предусмотрены два отдельных срока для обжалования в первую и во вторую кассации – по три месяца на каждый из двух уровней кассации (ч. 1 ст. 376.1 и ч. 1 ст. 390.2 указанного Кодекса).
Далее обратимся к проблеме практикообразующего значения определений судебной коллегии ВС РФ.
Сравним статистические показатели работы Президиума ВАС РФ в последние годы перед его ликвидацией, с одной стороны, и статистику работы Президиума ВС РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ – с другой.
Согласно Обзору статистических данных о рассмотрении в ВС РФ в 2023 г. административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел за 2023 г. в Президиум ВС РФ поступило 119 жалоб на судебные акты по гражданским делам и 542 жалобы на судебные акты арбитражных судов по экономическим спорам. Однако в передаче их всех для рассмотрения по существу было отказано.
Одновременно Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ из 73 226 поступивших жалоб рассмотрено по существу 766 жалоб, то есть примерно каждая сотая жалоба.
Судебной коллегией по экономическим спорам из 38 276 поступивших жалоб передано для рассмотрения по существу 500 жалоб, то есть также примерно 1,3% от поступивших жалоб (Обзор статистических данных о рассмотрении в Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел // Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации).
Статистика рассмотрения дел Президиумом ВАС РФ сейчас за давностью лет уже отсутствует в открытых источниках. Однако большинство авторов отмечают, что производительность Президиума ВАС РФ в количественном выражении была примерно такой же: в надзорном порядке рассматривалось по 450–500 дел в год (Багаев В.А. Объединение высших судов оценили умеренно-оптимистично // Но рекомендовали реформировать президиум ВС или экономическую коллегию / Интернет-портал «Закон.ру»).
Теперь обратим внимание на то, что всеми судами округов (то есть «первыми» кассационными судами) за 2024 г. рассмотрено 128 178 дел (Отчет о работе арбитражных судов округов по рассмотрению дел в кассационном порядке за 12 месяцев 2024 года // Интернет-сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации). Это означает, что вероятность того, что дело, рассмотренное судом округа, «дойдет» до СКЭС ВС РФ, хотя и не высока, но все же имеется. Следовательно, «вторая» кассация способна воздействовать на судебную практику округов.
Однако здесь следует обратить внимание на то, что закрепленное в действующем АПК РФ правовое значение позиций СКЭС ВС РФ на порядок ниже, чем ранее имелось у постановлений Президиума ВАС РФ. Напомню, что до 6 августа 2014 г. в абз. 8 ч. 4 ст. 170 АПК РФ содержалась норма о том, что суды могут ссылаться в резолютивных частях своих решений на постановления Президиума ВАС РФ и постановления Пленума ВАС РФ.
С 6 августа 2014 г. в указанной норме появилось дополнение, в силу которого суды также могут ссылаться на постановления Президиума ВС РФ и постановления Пленума ВС РФ. Относительно аналогичных актов ВАС РФ было добавлено уточнение, в силу которого на них можно ссылаться в тех случаях, если они сохраняют свою силу.
Одновременно в 2011 г. в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ было указано, что установление или изменение судебной практики Президиумом ВАС РФ или Пленумом ВАС РФ образует основание для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам. С 6 августа 2014 г. в данной норме в качестве оснований для пересмотра судебных актов указаны постановления Пленума ВС РФ или постановления Президиума ВС РФ.
Промежуточное положение занимают обзоры судебной практики ВС РФ, утвержденные Президиумом ВС РФ. С одной стороны, они указаны в абз. 8 ч. 4 ст. 170 АПК РФ в качестве источника, на который может ссылаться суд при мотивировании принятого решения. С другой стороны, такие обзоры не названы в п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ в качестве нового обстоятельства для пересмотра судебного акта, если в соответствующем обзоре произошло определение или изменение ранее сложившейся судебной практики.
Более того, в постановлении от 17 октября 2017 г. № 24-П Конституционный Суд Российской Федерации прямо указал на то, что обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом ВС РФ, в принципе не могут быть основанием для пересмотра судебных актов, поскольку они формируются на основании определений, вынесенных по конкретным делам. А такие определения, в свою очередь, не могут иметь практикообразующего значения, поскольку они:
могут быть отменены в порядке надзора;
принимаются судьями, входящими в определенные судебные коллегии и судебные составы ВС РФ, а значит, не отражают позицию высшего суда в целом.
Последний аргумент, безусловно, дискуссионный, поскольку при принятии постановлений Пленумом ВС РФ или Президиумом ВС РФ соответствующие правовые позиции все равно фактически формируют судьи тех составов, которые специализируются на определенной категории споров. В этом аспекте формирование позиции Президиума ВС РФ при принятии постановления по конкретному делу и утверждении обзора судебной практики мало чем отличаются друг от друга.
Сложившееся положение вещей приводит к тому, что те судебные акты, которые, с точки зрения интенсивности их принятия, фактически оказывают влияние на судебную практику, юридически соответствующими характеристиками не обладают. Это, в свою очередь, приводит к тому, что юридическая картина мира резко диссонирует с реальным положением вещей. Данное обстоятельство понижает авторитет права и способствует распространению правового нигилизма.
Таким образом, анализ проблемы «второй» кассации приводит меня к мысли о том, что в ВС РФ должна быть только одна инстанция, однако принимаемые ею судебные акты должны быть обязательны для учета судами, с точки зрения содержащихся в них правовых позиций, а также образовывать основания для пересмотра судебных актов, принятых вразрез с установленной практикой.
2. Проблема надзора
Сущностью судебного надзора является наличие права у должностных лиц судебной системы, а также других органов (например, прокуратуры) инициировать пересмотр судебного дела по собственной инициативе, то есть в отсутствие жалоб заинтересованных лиц.
Круг этих должностных лиц постоянно изменялся.
Так, по ГПК РСФСР 1923 г. в первоначальной редакции такое право принадлежало Прокурору Республики, его помощнику при Верховном Суде, Председателю Верховного Суда и его заместителю
Затем, в 1929 г. такое право стало принадлежать Народному комиссару юстиции, Прокурору Республики и Председателю Верховного суда РСФСР.
По ГПК РСФСР 1964 г. протесты были вправе приносить Генеральный прокурор СССР, Председатель Верховного Суда СССР, заместители Генерального прокурора СССР, заместители Председателя Верховного Суда СССР, Прокурор РСФСР, Председатель Верховного Суда РСФСР и их заместители; и т.п.
М.Ю. Новик-Качан прослеживает историю надзора в гражданском процессе с 1918 г., когда ВЦИК осуществлял надзор за решениями революционных трибуналов, хотя и признает, что общепринятым является подход, согласно которому надзор возник 10 марта 1921 г. с принятием декрета ВЦИК и СНК РСФСР о высшем судебном контроле (Новик-Качан М.Ю. Надзорное производство в гражданском процессе // Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2005. С. 15, 16.).
Как бы то ни было, но постсоветские процессуальные кодексы не решились отменить пересмотр судебных актов в порядке надзора.
Так, по АПК РФ 1992 г. право на принесение протестов на решения арбитражных судов принадлежало Председателю ВАС РФ, Генеральному прокурору Российской Федерации, заместителям Председателя ВАС РФ; заместителям Генерального прокурора Российской Федерации (ст. 133).
Практически те же самые должностные лица имели право на принесение протестов на решения арбитражных судов и по АПК РФ 1995 г. (ст. 181).
По АПК РФ 2002 г. в первоначальной редакции право на обжалование судебных актов в порядке надзора принадлежало только заинтересованным лицам. Прокурор имел право принесения протеста в порядке надзора лишь по делам, указанным в ст. 52 АПК РФ.
Примечательно, что ЕСПЧ в решении от 25 июня 2009 г. по вопросу приемлемости жалобы № 42600/05 ООО «Линк Ойл СПб» против Российской Федерации признал надзор, организованный по правилам АПК РФ 2002 г. (в первоначальной редакции), эффективным средством правовой защиты.
Суд обратил внимание на то, что в результате реформы председатель ВАС РФ и его заместители более не наделялись полномочиями по инициированию надзорного производства по собственной инициативе. Такое производство могло быть начато лишь по заявлению заинтересованного лица и в конкретный (трехмесячный) срок.
ООО «Линк Ойл СПб», обращаясь в ЕСПЧ, указывало на то, что отмена первоначально вынесенных в его пользу судебных актов судом надзорной инстанции противоречила принципу правовой определенности, в связи с чем было нарушено его право на судебную защиту.
Тем не менее, ЕСПЧ посчитал неприемлемой жалобу заявителя, указав на то, что надзор, организованный по правилам 2002 г., напротив, соответствует принципу правовой определенности.
Примечательно, что в другом деле – «Аршинчикова против Российской Федерации» (постановление от 29 марта 2007 г.) – ЕСПЧ пришел к противоположным выводам применительно к АПК РФ 1995 г. Суд указал на то, что наличие у государственного служащего (в данном случае Председателя или заместителя Председателя ВАС РФ) не ограниченного временными рамками права по собственной инициативе инициировать пересмотр дела в порядке надзора не отвечает принципу правовой определенности. Само дело касалось вопроса о праве крестьянско-фермерского хозяйства выкупить 12-ти квартирный жилой дом в г. Саратове.
Но, несмотря на это, в 2014 г. право должностных лиц высшего суда инициировать пересмотр судебного акта в порядке надзора, равно как и в кассационном порядке, было возвращено в АПК РФ.
Так, в силу ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ (в действующей редакции) Председатель ВС РФ, заместитель Председателя ВС РФ вправе не согласиться с определением судьи ВС РФ об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ и до истечения срока подачи кассационных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.
Применительно к надзорному производству используется несколько иная формулировка.
В ч. 1 ст. 308.10 АПК РФ указано, что Председатель ВС РФ или заместитель Председателя ВС РФ по жалобе заинтересованных лиц вправе внести в Президиум ВС РФ представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях устранения фундаментальных нарушений норм права.
Важно отметить, что надзорное производство по нормам ГПК РФ еще в 2007 г. было предметом проверки на соответствие Конституции Российской Федерации. В п. 6 постановления КС РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П (далее – Постановление № 2-П) указано, что инициирование Председателем ВС РФ или его заместителем надзорного пересмотра судебных актов является конституционным лишь при условии, что оно производится по обращению заинтересованного лица.
Примечательно, что в указанном постановлении КС РФ в целом выразил свое весьма скептическое отношение к системе надзора, предусмотренной действовавшим на тот момент ГПК РФ. В данном постановлении подчеркнуто, что надзор, организованный по нормам АПК РФ в первоначальной редакции, выгодно отличается от аналогичного института по ГПК РФ тем, что надзорное обжалование возможно только однократно, в установленный законом трехмесячный срок и только по инициативе заинтересованного лица.
В то же время КС РФ воздержался от признания всех норм о надзорном производства не соответствующими Конституции Российской Федерации, поскольку это привело был к правовому вакууму и дезорганизации гражданского судопроизводства в целом (п. 9.2 мотивировочной части постановления).
При этом КС РФ сослался на правовые позиции ЕСПЧ, отраженные в следующих его постановлениях:
постановление от 28 октября 1999 г. по делу «Брумареску против Румынии», в котором ЕСПЧ указал на то, что «одним из основных аспектов верховенства права является принцип правовой определенности, который требует inter alia, чтобы при окончательном разрешении дела судами их постановления не вызывали сомнения» (дело касалось пересмотра судебного акта о признании незаконной национализации дома заявителя по заявлению генерального прокурора);
постановление от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых против Российской Федерации», в котором ЕСПЧ указал на то, что в силу принципа правовой определенности «ни одна из сторон не может требовать пересмотра окончательного и вступившего в законную силу постановления только в целях проведения повторного слушания и получения нового постановления. Полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок, неправильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу» (дело касалось длительной невыплаты гражданке Рябых компенсации, обесценивания ее вкладов в «Сбербанке», открытых в советское время).
Принимая во внимание правовые позиции ЕСПЧ, КС РФ вполне мог быть признать не соответствующей Конституции РФ все надзорное производство, но не сделал этого.
Однако именно правовой позицией, отраженной в Постановлении № 2-П, объясняется то, что в ч. 1 ст. 308.10 АПК РФ обращается внимание на наличие у Председателя ВС РФ или его заместителя права инициировать надзорный пересмотр судебного акта только по обращению заинтересованного лица.
Буквальный текст ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ создает ощущение того, что Председатель ВС РФ или его заместитель самостоятельно не соглашается с судьей, вынесшим определение об отказе в передаче дела на рассмотрение судебной коллегии, и передает дело на рассмотрение судебной коллегии, то есть без обращения к нему заинтересованного лица.
Однако в постановлении КС РФ от 12 июля 2018 г. № 31-П отмечено, что правовая позиция, отраженная в Постановлении № 2-П, о том, что должностные лица ВС РФ могут инициировать надзорный пересмотр лишь по жалобе заинтересованного лица, распространяется и на «вторую» кассацию (п. 3 мотивировочной части).
В п. 1 резолютивной части также оговаривается, что подобное обращение заинтересованного лица к Председателю ВС РФ или его заместителю возможно лишь в пределах двухмесячного срока на кассационное обжалование.
Между тем весь изложенный подход все же вызывает противоречивые ощущения. Законодатель как будто продолжает цепляться за само право Председателя ВС РФ или его заместителя на инициирование пересмотра судебных актов в порядке надзора или в кассационном порядке. Однако затем как законодатель, так и правоприменитель небольшим «штрихом» все же оговаривает, что такое инициирование возможно лишь по обращению заинтересованного лица.
Не напоминает ли это нам сначала создание проблемы, а потом «героическое» ее решение?
Не проще ли было бы в принципе полностью отказаться от права должностных лиц ВС РФ инициировать как надзорный пересмотр, как и кассационную проверку судебных актов? Тогда и никаких оговорок применительно к этим нормам не потребовалось бы. Как вариант возможно предусмотреть полноценную процедуру обжалования определений об отказе в передаче жалобы или заявления о пересмотре судебного акта, вынесенных судьям ВС РФ
В результате мое предложение состоит в том, чтобы полностью отказаться от права должностных лиц ВС РФ инициировать рассмотрение дел в кассационном или надзорном порядке.
3. Структура ВС РФ
В настоящее время ВС РФ состоит из семи коллегий: апелляционной, по административным делам, по гражданским делам, по уголовным делам, по экономическим спорам, по делам военнослужащих и дисциплинарной коллегии. Также в состав ВС РФ входят Президиум и Пленум (ст. 3 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»).
В рамках общей направленности на упрощение структуры ВС РФ (чем сложнее структура – тем непонятнее работа органа) мне кажется правильным сохранить в его составе три коллегии: гражданскую, административную и уголовную
Мое предложение обусловлено тем, что в «чистом виде» (с точки зрения традиционных критерия предмета и метода) существует только три отрасли права: гражданское, административное и уголовное. Первое регулирует имущественные и личные неимущественные отношения на основании метода дозволения, второе – управленческие отношения на основании метода обязывания и третье – отношения в сфере установления преступности деяний и наказаний за них методом запрета.
Так, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, в которую обжалуются судебные акты арбитражных судов, в сущности, рассматривает те же самые гражданские и административные дела. К тому же категория «экономические споры», использованная в ст. 27 и 28 АПК РФ, а также в ряде других норм, с точки зрения права, является весьма неопределенной, что по сей день порождает многочисленные споры о подсудности.
Дела с участием военнослужащих – суть те самые гражданские, административные и уголовные дела, и они могут быть распределены между тремя коллегиями, которые я предлагаю создать взамен нынешних.
Дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности по своей сущности наиболее близки к административным делам, и потому данную категорию споров целесообразно передать на рассмотрение административной коллегии ВС РФ.
Относительно апелляционной коллегии ВС РФ следует обратить внимание на то, что ее существование обусловлено тем, что существуют дела, по которым ВС РФ выступает в качестве суда первой инстанции. Перечень указанных дел приводится в п. 4 и 5 ст. 2 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
Поскольку существование подобной категории дел подрывает принцип: «одно звено – одна инстанция», чрезмерно усложняет структуру ВС РФ и приводит к тому, что жалобы на акты судей ВС РФ рассматривают другие судьи того же ВС РФ, на мой взгляд, целесообразно отнести вышеуказанные дела к подсудности судов субъектов Российской Федерации.
Все вышесказанное не исключает специализацию судей или судебных составов внутри коллегий. Так, например, в составе судебной коллегии по гражданским делам было бы целесообразно создать состав, специализирующийся на делах о банкротстве; состав, специализирующийся на корпоративных спорах; и т.п.
Также возможна специализация отдельных судей всех трех коллегий на делах с участием военнослужащих.
Во главе каждой коллегии должен быть президиум, который будет рассматривать дела в порядке ревизии. От самого названия «надзор» предлагаю отказаться, поскольку его сущность состоит в нарушении принципа диспозитивности. Как я указывал выше, наличие одного президиума по всем категориям дел едва ли целесообразно, поскольку фактически решения в таких органах все равно принимаются судьями, специализирующимися на той или иной категории дел.
Тем не менее для достаточно редких случаев возникновения вопросов межотраслевого характера (яркий пример – о сохранении уголовно-процессуальных арестов при введении в отношении должника конкурсного производства) должна быть возможность созыва объединенного президиума. Ходатайство о таком созыве должно содержаться в соответствующей жалобе, то есть инициатива будет исходить только от лиц, участвующих в деле, желающих поставить перед ВС РФ вопрос межотраслевой специализации.
Интересно, что примерно такую структуру ВС РФ в августе 2013 г. предлагал создать С.В. Сарбаш за той лишь разницей, что его предложение предполагало создание четырех коллегий (гражданской, уголовной, налоговой и административной), а конфликтующие вопросы толкования законов должен был рассматривать сенат (Сарбаш С.В. Объедиеннный Верховный Суд de lege ferenda (или опять о суде будущего) // Интернет-портал «Закон.ру»).
Состав президиумов должен ротироваться; при этом в них должны входить судьи без упора на руководящих должностных лиц судов. Каждый судья ВС РФ должен равномерно участвовать как в отборе дел для их пересмотра, так и в самом рассмотрении дел.
Также, на мой взгляд, целесообразно сохранить такой орган, как Пленум ВС РФ, поскольку действующий правопорядок еще не готов отказаться от абстрактных разъяснений высшей судебной инстанции. Несмотря на уникальность такого явления, как постановления Пленума ВС РФ в мировых масштабах, невозможно отрицать позитивное значение этих разъяснений для формирования единообразной судебной практики.
4. Выводы
Итак, если резюмировать, мои предложения сводятся к следующему:
в составе ВС РФ образуется три судебных коллегии: по гражданским, административным и уголовным делам;
во главе каждой коллегии стоит президиум, который рассматривает дела в порядке ревизии; состав президиумов определяется на ротационной основе;
по инициативе заинтересованного лица может быть созван общий президиум, который рассматривает вопросы межотраслевого характера;
исключается право должностных лиц ВС РФ инициировать рассмотрение дел в ВС РФ; взамен этого предусматривается возможность обжалования определения судьи об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу.