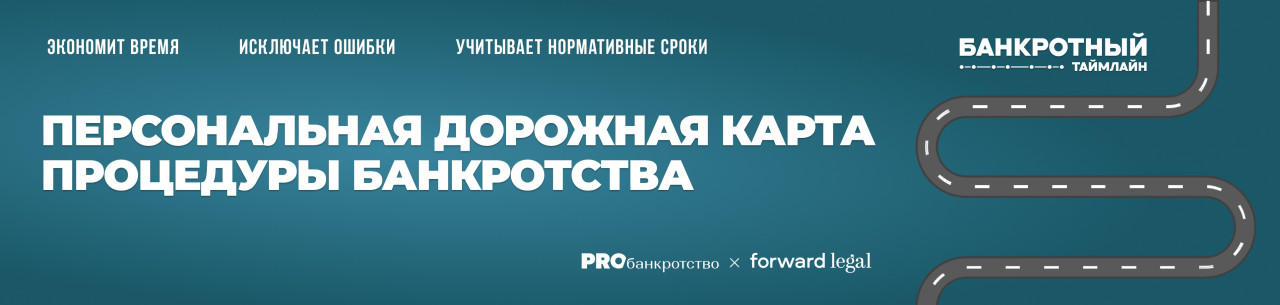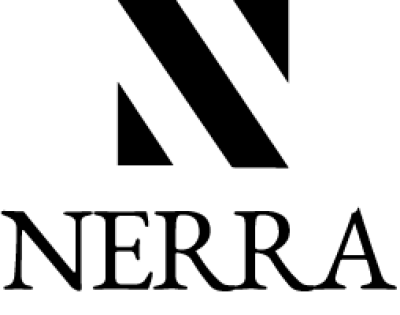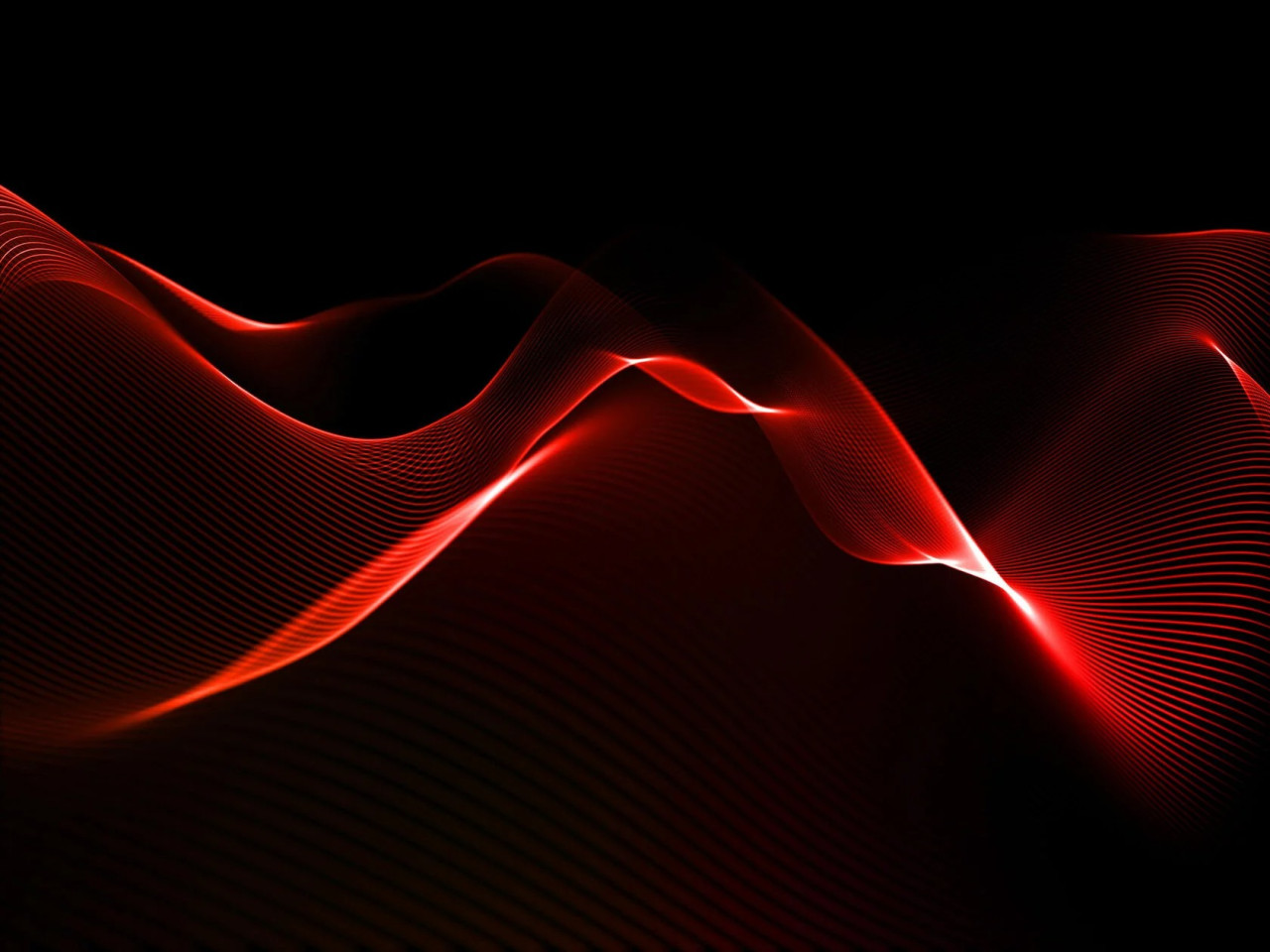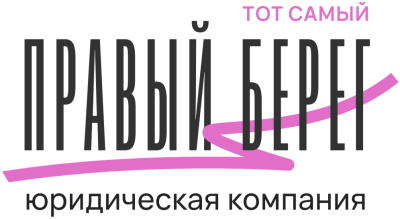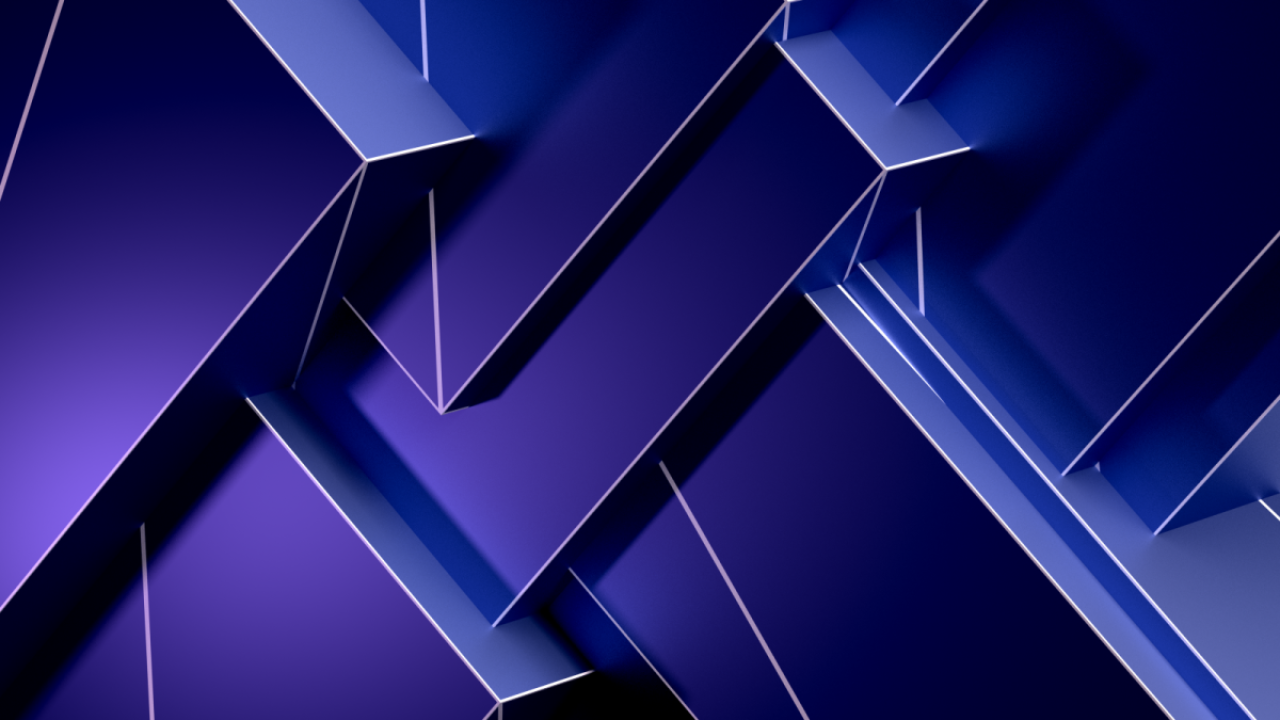Гражданское право в советское время существовало без его неотъемлемой и важной части – правил о банкротстве. Сейчас пришло время наверстывать упущенное и синхронизировать нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Одна из проблемных точек соприкосновения – это правила о банкротстве имущественной массы умершего, с одной стороны, и правила о пределах ответственности наследника, – с другой.
Напомню, что абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ устанавливает, что каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Одновременно ст. 223.1 Закона о банкротстве предусматривает правила банкротства гражданина в случае его смерти.
Как мне кажется, в последнем случае речь должна идти, скорее, об имущественной массе умершего, ведь самого гражданина уже нет в живых (подробнее об этом пойдет речь далее).
Далее я хотел бы разобраться в том, как соотносятся эти правила. Оговорюсь, что япостроил свои рассуждения на ситуации, когда наследник один. Когда наследников несколько, ситуация осложняется, но это достойно отдельной публикации.
1. Доктринальные разработки
Известный исследователь наследственного права Е.Ю. Петров прослеживает историю развития идеи об ограничении ответственности наследника с римского права. Как подчеркивает автор, первоначально римляне считали, что наследник безоговорочно занимает место наследодателя и несет полную ответственность по его долгам.
Однако кодификация Юстиниана ввела в качестве альтернативы ответственность, ограниченную стоимостью наследственной массы (pro viribus hereditatis). Воспользоваться ограничением ответственности мог тот наследник, который при участии официальных лиц и кредиторов делал опись и оценку всего наследственного имущества. Ограничение ответственности понималась как льгота (beneficium inventarii).
Второй способ ограничить свою ответственность пределами наследственной массы (не стоимостью, а самим имуществом – cum viribus hereditatis) носил название «сепарация» (beneficium separationis). В последнем случае унаследованное имущество по решению претора отделялось от имущества наследников для целей удовлетворения требований кредиторов наследства.
Дореволюционное российское право было основано на идее неограниченной ответственности наследников. В советское время ответственность наследника ограничивалась стоимостью наследственного имущества.
Применительно к современному российскому праву Е.Ю. Петров признает, что оно по традиции основано на идее ответственности в пределах стоимости наследства (pro viribus hereditatis).
Это означает, что кредитор наследодателя становится кредитором наследника, а не наследства. Судебный пристав, производящий принудительное исполнение требований кредитора, уполномочен обратить взыскание как на унаследованное имущество, так и на личное имущество наследника. Личные кредиторы наследника вправе удовлетворить свои требования за счет унаследованного имущества. Российскому исполнительному производству не известна дифференциация имущества должника на унаследованное и личное.
В то же время автор подчеркивает, что идея сепарации (cum viribus hereditatis), возможно, более последовательна.
На последней идее основана концепция банкротства умершего.
Рассуждения на сей счет автор заканчивает констатацией того, что правила ст. 1175 ГК РФ и ст. 223.1 Закона о банкротстве пока не синхронизированы, и это предстоит сделать в ходе развития судебной практики (Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1124 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. Е.Ю. Петров. М., 2018. Автор комментария к статье 1175 ГК РФ – Е.Ю. Петров. С. 381–383, 387, 388).
2. Судебная практика
Концепция ответственности в пределах стоимости наследуемого имущества отражена в п. 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее – Постановление № 9).
В абз. 4 данного пункта разъяснено, что при отсутствии или недостаточности наследственного имущества требования кредиторов по обязательствам наследодателя не подлежат удовлетворению за счет имущества наследников и обязательства по долгам наследодателя прекращаются невозможностью исполнения полностью или в недостающей части наследственного имущества (п. 1 ст. 416 ГК РФ).
Одновременно в п. 61 данного постановления указано, что стоимость перешедшего к наследникам имущества, пределами которой ограничена их ответственность по долгам наследодателя, определяется его рыночной стоимостью на время открытия наследства вне зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела судом.
Применяя на практике данный пункт, суды взыскивают с наследника долги наследодателя только в пределах стоимости принятого наследства, а в остальной части отказывают в иске.
Хорошей иллюстрацией данного тезиса служит следующее дело, рассмотренное Арбитражным судом Волго-Вятского округа (постановление от 18 сентября 2024 г. по делу № А79-6368/2023).
ПАО «Сбербанк» обратилось в Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в рамках дела о банкротстве гражданки П. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов требования в сумме 58 955 руб. 57 коп.
Суд первой инстанции признал требование обоснованным в части 825 руб. 58 коп., в остальной части отказал в удовлетворении заявления.
Суд апелляционной инстанции оставил определение без изменения.
Из материалов дела следовало, что гражданин П. заключил с ПАО «Сбербанк» кредитный договор от 28 февраля 2021 г., по условиям которого ему был предоставлен кредит в сумме 68 181 руб. 82 коп. на 60 месяцев под 19,9% годовых.
Гражданин П. умер 20 мая 2022 г.; обязательства по возвращению кредита не были исполнены.
Мариинско-Посадский районный суд Чувашской Республики решением от 6 марта 2024 по делу № 2-121/2024 взыскал с гражданки П. как с наследницы гражданина П. в пользу ПАО «Сбербанк» задолженность по кредитному договору в размере 425 руб. 58 коп., а также 400 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.
При этом суд общей юрисдикции исходил из того, что гражданке П. перешли по наследству только 425 руб., находившиеся на банковском счете, ранее принадлежавшем гражданину П.
Суд округа согласился с вынесенными по делу судебными актами, обратив внимание на то, что в данном случае судом рассматривается дело о банкротстве наследника, а не наследственной массы.
Учет в реестре требований кредиторов наследника обязательства в полном объеме привел бы к нарушению прав других кредиторов, поскольку требования такого кредитора могли бы быть погашены в большем размере, нежели стоимость унаследованного имущества, а также предоставить ему больше голосов на собрании кредиторов должника.
Следовательно, в данном случае в конкретном деле нашла свое воплощение концепция ответственности в пределах стоимости наследства (pro viribus hereditatis).
Противоположный подход изложен, например, в постановлении Арбитражного суда Московского округа (далее – АС МО) от 16 сентября 2019 г. по делу № А40-25142/2017.
Гражданин Б. обратился в Арбитражный суд города Москвы в рамках дела о банкротстве имущественной массы гражданки С. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов требования в сумме 3 371 394 руб. 04 коп.
Из материалов дела следовало, что решением Никулинского районного суда города Москвы № 2-870/2014 удовлетворен иск гражданина Б. и солидарном взыскании с наследников С. – граждан Л. и Б. – задолженности в сумме 15 864 500 руб.
Ввиду неисполнения наследниками указанного решения кредитор полагал, что он вправе предъявить к имущественной массе умершей гражданки С. требование, состоящее из 3 371 394 руб. 04 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суды первой и апелляционной инстанций посчитали требование обоснованным и подлежащим удовлетворению в порядке п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве.
Оставляя принятые по делу судебные акты без изменения, АС МО указал на то, что ограничение размера ответственности наследников стоимостью перешедшего к ним наследственного имущества не ограничивает кредиторов наследодателя в установлении в реестре полной суммы задолженности, не покрываемой стоимостью принятого наследниками имущества.
Здесь необходимо обратить внимание на то, что во втором из приведенных казусов шла речь о банкротстве имущественной массы умершего, а не банкротстве наследника, и потому прямое противоречие между вышеприведенными постановлениями отсутствует.
В постановлении АС ВВО от 10 декабря2024 г. по делу № А79-2881/2023 суд кассационной инстанции более категорично высказался в пользу возможности включения требования в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве наследника.
Как указал суд, размер удовлетворения требований кредитора – ГК «АСВ» – зависит от цены реализации в процедуре банкротства должника наследственного имущества, включенного в конкурсную массу гражданина Я. (наследника).
Ограничение размера ответственности наследников стоимостью перешедшего к ним наследственного имущества не ограничивает кредиторов наследодателя в установлении в реестре полной суммы задолженности, которая может быть не покрыта стоимостью принятого наследниками имущества.
Иной подход при условии включения в конкурсную массу, формируемую в деле о банкротстве, наследственного имущества, полученного от наследодателя, повлечет нарушение прав ГК «АСВ» на получение удовлетворения своих требований за счет данного имущества.
Должник, финансовый управляющий и ГК «АСВ» не лишены возможности урегулировать разногласия, связанные с вопросами реализации наследственной массы и удовлетворения требований кредиторов наследодателя в порядке ст. 60 Закона о банкротстве.
Таким образом, в последнем случае АС ВВО достаточно категорично высказался в пользу идеи сепарации.
Какая из двух концепций более правильная? Попробуем разобраться.
3. Банкротству подлежит лицо или имущественная масса?
Российское право традиционно основано на четком разделении субъекта и объекта. Так, ответчиками в судах являются граждане, организации и публично-правовые образования; банкротами могут быть признаны граждане и юридические лица (за некоторыми исключениями) и т.п.
Однако сама жизнь подсказывает нам, что есть настоятельная потребность в том, чтобы в некоторых случаях признавать квазисубъектом некую имущественную массу.
Начать нужно с того, что еще в римском праве в 326 г. до н.э. законом Петелия было запрещено обращать взыскание на личность должника и, наоборот, предписано обращать взыскание на его имущество (Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV. Торговый процесс. Конкурсный процесс. М., 2003. С. 104).
Из более современных авторов в 1928 г. Я.А. Канторович указывал на то, что «личная связь между кредитором и должником, которая характеризовала примитивное обязательство и которой обусловливалась обреченность должника произволу кредитора, заменяется юридическим отношением между кредитором и имуществом должника» (Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков. 1928. С. 48.).
В настоящее время идею различения юридической судьбы должника и его имущества в процедурах банкротства активно продвигает О.Р. Зайцев (Телеграм-канал «Shokobear» (Олег Зайцев о банкротстве), пост от 16 октября 2020 г.).
Также уместно упомянуть идею Г.Ф. Шершеневича о наделении свойствами юридического лица «лежачего наследства» (Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 624).
Достаточно показателен следующий пример из моей собственной практики.
В деле о банкротстве имущественной массы умершего гражданина В. (№ А56-162496/2018) была эффективно оспорена сделка, по которой должник при жизни подарил своему сыну долю в праве собственности на земельный участок, расположенный в Калининградской области.
В последующем были проведены торги по продаже указанной доли в деле о банкротстве.
Однако при регистрации прав конкурсной массы в отношении указанного объекта для его последующей передачи победителю торгов возник вопрос о том, кого следует указать в качестве правообладателя в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) в рамках применения последствий недействительности сделки.
Определением от 2 февраля 2022 г. суд разъяснил, что в таком случае в ЕГРН в качестве правообладателя следует указать наследственную массу умершего гражданина В.
Определение было мотивировано применением фикции субъекта: наследственная масса (которая в данном случае совпадает с конкурсной массой) считается юридическим лицом.
Вот в каком, казалось бы, банальном примере потребовалось признать имущественную массу квазисубъектом.
Идея о том, что процедуры банкротства вводятся не столько в отношении лица, сколько в отношении его имущества, тесно связана с другой идеей – процессуальной консолидации.
4. Процессуальная консолидация
Как я уже писал в одной из своих предыдущих статей, процессуальная консолидация представляет собой достаточно малоисследованный субинститут банкротного права, поскольку исследователи проблематики банкротства группы лиц, как правило, уделяют большее внимание материальной консолидации (См.: Шевченко И.М. Банкротство группы лиц: с чего начать // Интернет-портал «PROбанкротство»).
Однако и идея процессуальной консолидации уже начинает пробивать себе путь в текущей судебной практике.
Так, п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» (далее – Постановление № 48) предусматривает возможность объединения судом в порядке ст. 130 АПК РФ дел о банкротстве двух супругов.
В таком случае назначается один финансовый управляющий, который ведет одновременно три реестра требований кредиторов: реестры личных обязательств каждого из супругов и реестр общих обязательств. Из этого следует, что имущественных масс тоже три: личная имущественная масса каждого из супругов и имущественная масса, состоящая из объектов, находящихся в общей совместной собственности.
Вот и получается, что дело одно, судья, рассматривающий его, тоже один; управляющий один, а имущественных масс (то есть банкротящихся квазисубъектов) уже три.
Приведу пример из своей собственной практики.
В деле № А56-69448/2024 рассматривался вопрос о том, что если в отношении должника как главы крестьянского (фермерского) хозяйства уже введена процедура банкротства, то следует ли вводить процедуру банкротства в отношении него как гражданина.
Определением от 20 ноября2024 г. по указанному делу суд отказал во введении процедуры банкротства в отношении гражданина С. по заявлению его кредитора – гражданки Г.
Из материалов дела следовало то, что ранее определением от 31 января 2023 г. по делу № А56-112114/2022 арбитражный суд уже ввел процедуру реструктуризации долгов гражданина в отношении С. как главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
При этом требование гражданки Г. было включено в реестр требований кредиторов в рамках указанного дела.
Заявление о признании С. банкротом как гражданина было мотивировано тем, что некоторые сделки, которые оспаривались в рамках делу № А56-112114/2022, были совершены С. как гражданином, и он выдвигал соответствующее возражение при их оспаривании.
Отказывая во введении в отношении С. второй процедуры банкротства, суд указал на то, что лица, участвующие в деле № А56-112114/2022, не лишены возможности обратиться к суду с ходатайством о процессуальной консолидации, в рамках которой будет рассмотрен вопрос о банкротстве двух конкурсных масс: крестьянского (фермерского) хозяйства С. и его личной имущественной массы должника.
При этом могут вестись два реестра требований кредиторов.
В таком случае подлежит применению по аналогии п. 10 Постановления № 48.
Идея процессуальной консолидации способна оказать существенную помощь в решении поставленного вопроса о соотношении норм банкротного права и наследственного права.
5. Ответственность в пределах стоимости или в пределах массы?
На мой взгляд, идею ограничения ответственности наследника правильнее реализовать путем имплементации концепции ответственности в пределах массы, нежели чем ответственности в пределах стоимости наследства.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что закон не требует обязательной оценки стоимости наследства. В силу абз. 3 п. 1 ст. 1172 ГК РФ такая оценка производится только по требованию исполнителя завещания, наследников или органа опеки и попечительства. Также подобная оценка может быть произведена по соглашению между наследниками.
Но как быть в той ситуации, когда оценка не произведена? Как тогда ограничить ответственность наследника по долгам наследодателя?
Более того, даже если оценка и производилась бы, она зачастую страдала бы существенной неточностью, имея в виду вероятностный характер любой оценки.
На недостаток ограничения ответственности наследника стоимостью наследственного имущества обращает внимание Е.Ю. Петров. Он пишет о том, что «последовавший после открытия наследства взлет котировок или обвал рынков может оказаться приятным сюрпризом либо, наоборот, сыграть злую шутку с наследниками» (Петров Е.Ю. Указ. соч. С. 383).
На мой взгляд, едва ли можно признать правильной основанную на п. 60 и 61 Постановления № 9 практику взыскания с наследников долгов наследодателя только в пределах стоимости наследства. Например, если долг составляет 100 руб., а стоимость наследства составляет 20 руб., то суды отказывают в иске в части взыскания 80 руб.
Во-первых, как уже было указано выше, оценка всегда носит вероятностный характер.
Во-вторых, когда взыскивается долг с банкрота в обычной ситуации (или устанавливается требование кредитора), никому не приходит в голову взыскивать такой долг только в пределах имеющегося имущества (его стоимость в ряде случаев можно определить довольно точно).
Если следовать такой логике, то если у должника вообще ничего нет, то в удовлетворении любых исков к нему о взыскании денежных средств следует отказывать, однако это явный абсурд.
В-третьих, иногда могут иметься наследники, которые еще не успели заявить о своих правах. Если явится такой запоздалый наследник, и он будет претендовать на половину от наследства (в нашем примере от 20 руб.), то, очевидно, что вынесенное в пользу первого наследника решение придется пересматривать, и взыскивать с него уже 10 руб.
В-четвертых, могут обнаружиться другие кредиторы, которые также будут претендовать на свою часть наследственного имущества (на те же самые 20 руб.).
Институт банкротства уже содержит в себе готовые механизмы для разрешения конфликта, возникающего при стечении кредиторов в отношении имущества, которого не хватит для удовлетворения всех их требований. Более того, в делах о банкротстве требования кредиторов устанавливаются в полном объеме, а вот уже фактическое удовлетворение они получают исходя из выручки, полученной от продажи объектов, входивших в конкурсную массу.
И вот здесь довольно серьезную помощь оказывает идея процессуальной консолидации, которая допускает банкротство двух имущественных масс в рамках одного дела. При этом должны вестись два реестра требований кредиторов: кредиторов наследственной массы и кредиторов самого наследника.
Интересна позиция, приведенная в ответе на вопрос № 12 Рекомендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Волго-Вятского округа, выработанных по результатам заседания, состоявшегося 10 апреля 2025 г. в Нижнем Новгороде.
Согласно указанным рекомендациям ответ на вопрос о том, следует ли вводить процедуру банкротства имущественной массы умершего гражданина, зависит от времени, истекшего от даты открытия наследства.
Если прошел незначительный период времени и наследственная масса сохранилась в натуре, то целесообразно ввести процедуру банкротства по правилам параграфа 4 главы X Закона о банкротстве.
Если же прошел значительный период времени после открытия наследства и наследственная масса успела смешаться с имуществом самого наследника, то долги массы становятся личными долгами наследника, и тогда возбуждение процедуры банкротства наследственной массы нецелесообразно (См.: Интернет-сайт Арбитражного суда Волго-Вятского округа // https://fasvvo.arbitr.ru/about/recomendazii).
Аналогичным образом в п. 52 Обзора судебной практики по делам о банкротстве граждан, утвержденного Президиумом ВС РФ 18 июня 2025 г., разъяснено, что по долгам наследодателя подлежит введению процедура реализации его имущества при возможности отделения наследственной массы от имущества наследников.
В этом контексте стоит обсудить идею о распространении на наследника идеи п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве: наследник в случае обнаружения недостаточности наследственной массы для покрытия всех ее долгов обязан обратиться в суд с заявлением о признании банкротом такой массы. Если же такого обращения не последует, наследник утрачивает возможность ограничения своей ответственности пределами наследственной массы.
Если же относиться более щадящим образом к наследнику, который не обратился в суд с заявлением о банкротстве наследственной массы и допустил ее смешивание с собственным имуществом, то возможно такое решение: если при принятии наследства была зафиксирована его стоимость, то при продаже его имущества за счет полученной выручки сначала удовлетворяются кредиторы наследодателя в пределах стоимости наследства, а затем – кредиторы самого наследника.
Однако такой подход будет страдать рядом недостатков. Стоимость наследственного имущества может занимать существенную долю в выручке от продажи имущества наследника (например, 900 руб. из 1100 руб.), а может быть и так, что стоимость наследства в принципе окажется больше, чем подобная выручка. При таком раскладе едва ли будут довольны личные кредиторы наследника.
Можно подумать и над определенной пропорцией, по которой будет делиться подобная выручка: например, половину получают кредиторы наследодателя, а половину – кредиторы наследника. При установлении фактов того, что наследник «разбазарил» полученное по наследству имущество, данная пропорция может смещаться (например, 70 на 30 в пользу кредиторов наследодателя).
Однако подобные решения выглядят весьма произвольными («пальцем в небо»), что заставляет нас вернуться к изначальной идее об обязательном банкротстве наследственной массы при ее недостаточности для погашения требований кредиторов.
6. Вывод
Как мне кажется, содержание абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ нисколько не препятствует применению идеи сепарации, поскольку он может быть истолкован так, что наследник отвечает по обязательствам наследодателя в пределах выручки от продажи наследственной массы (именно так определяется ее стоимость). При этом следует распространить на наследника обязанность, предусмотренную п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве, об обращении в суд при недостаточности наследственной массы для погашения долгов наследодателя. Иные решения имеющейся проблемы кажутся мне намного более проблемными.
Позиция, отраженная в настоящей статье, является личным мнением автора и не может рассматриваться как официальная позиция Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.