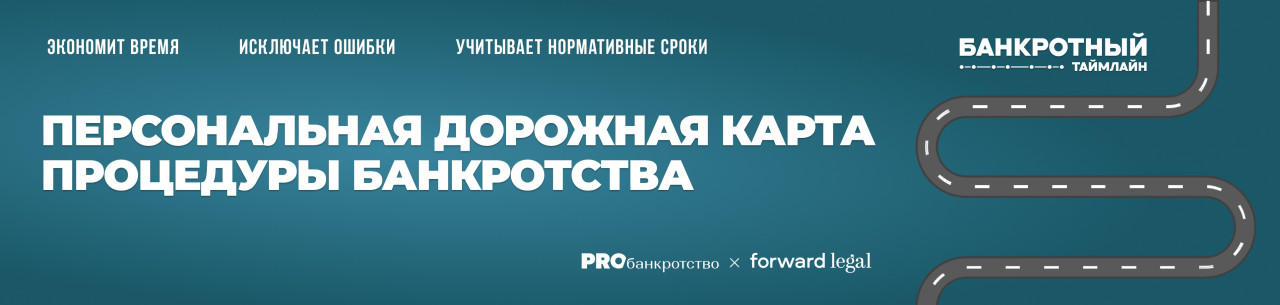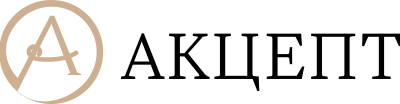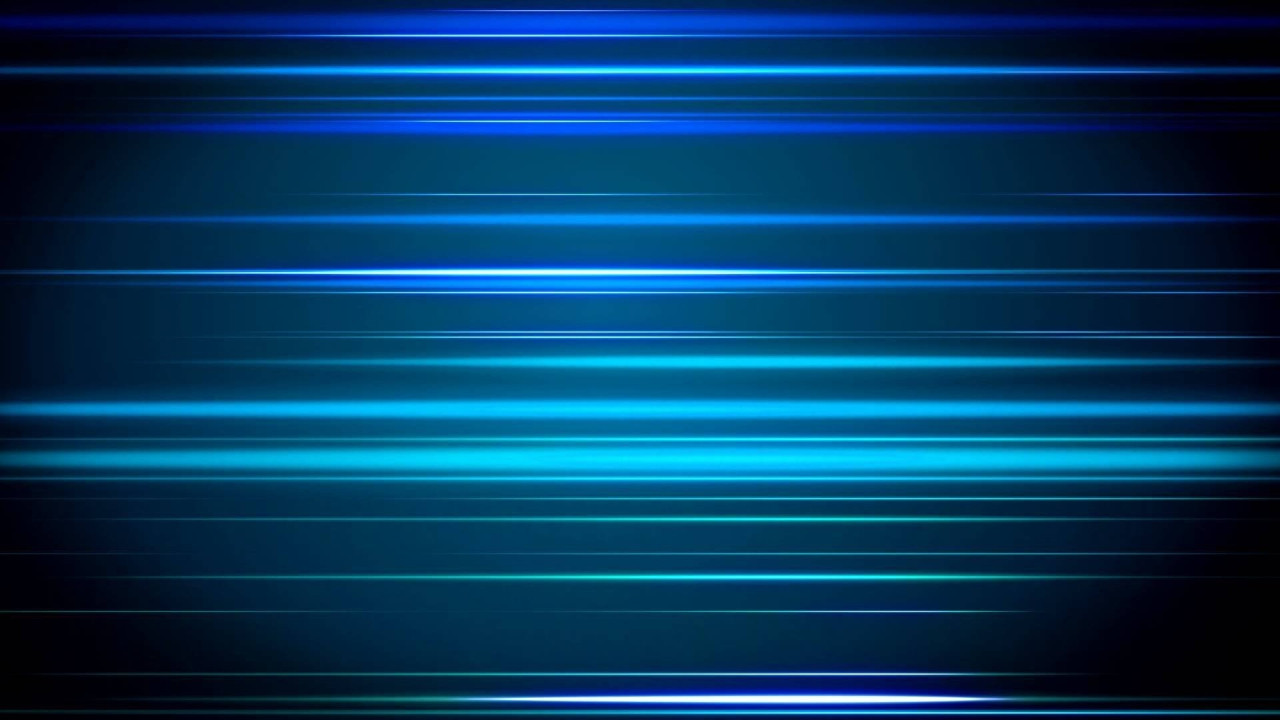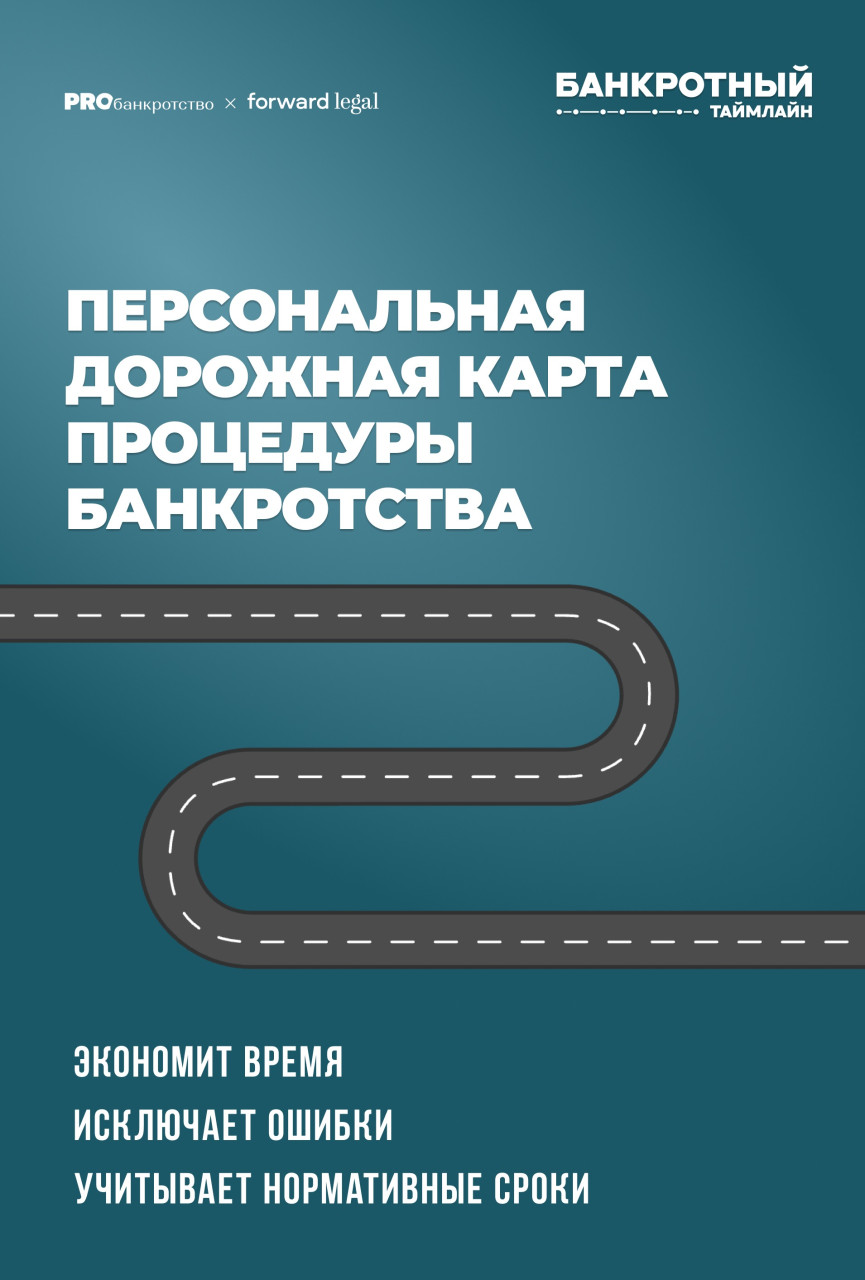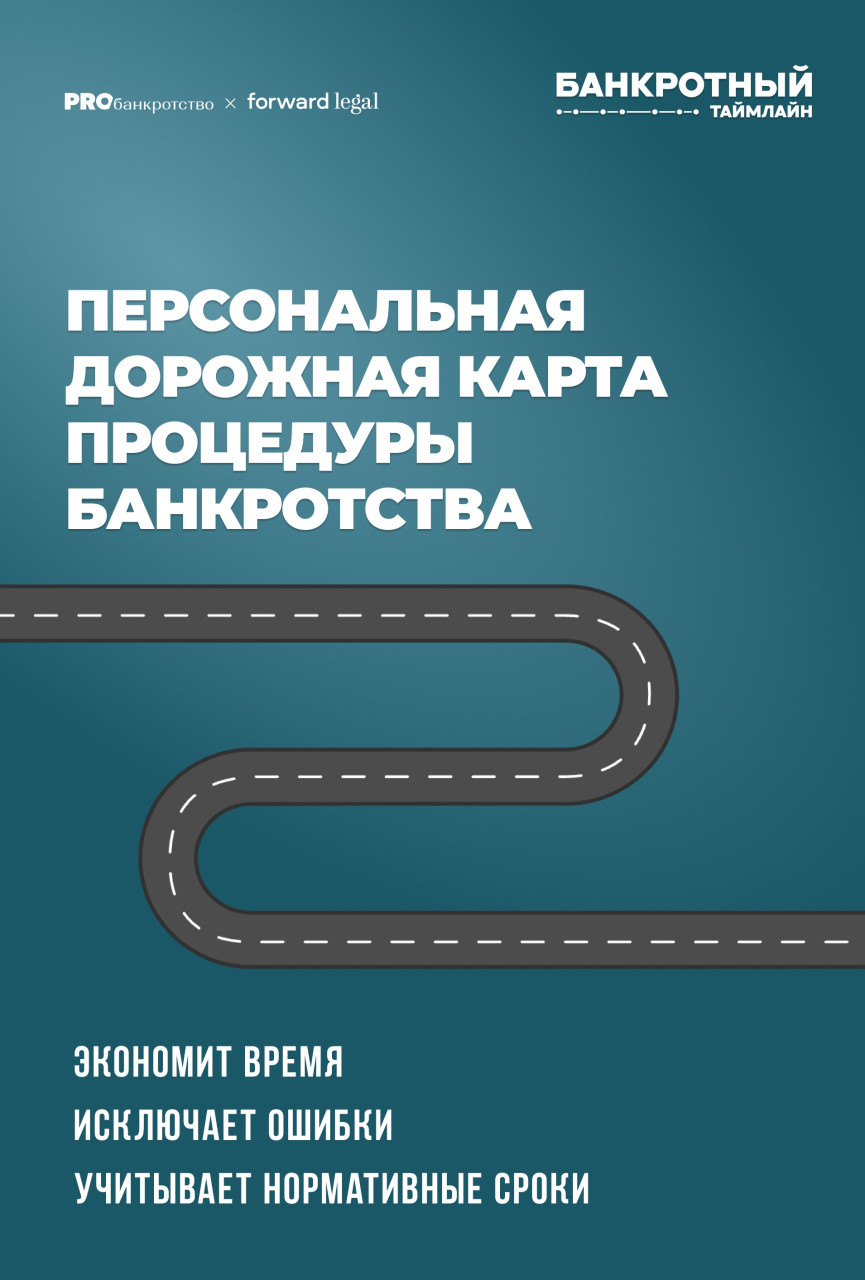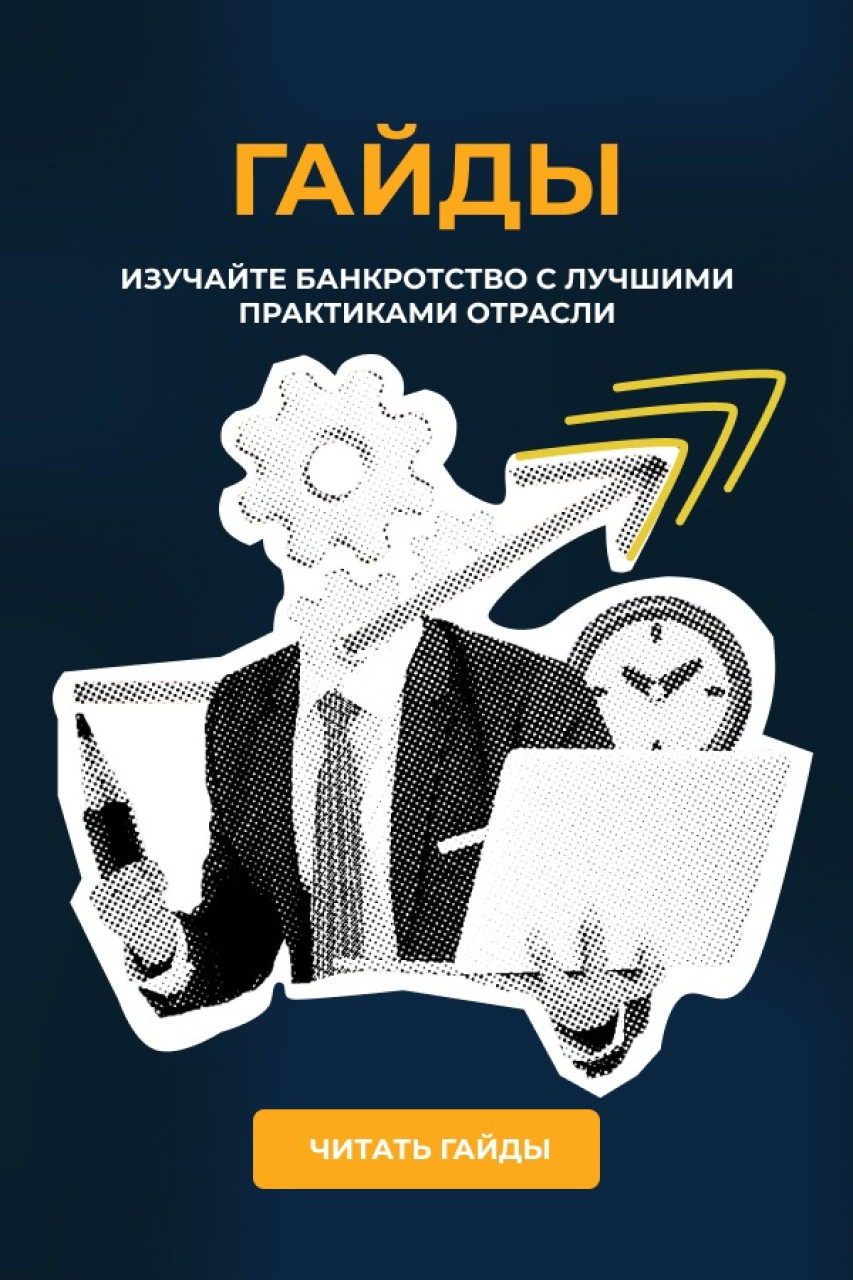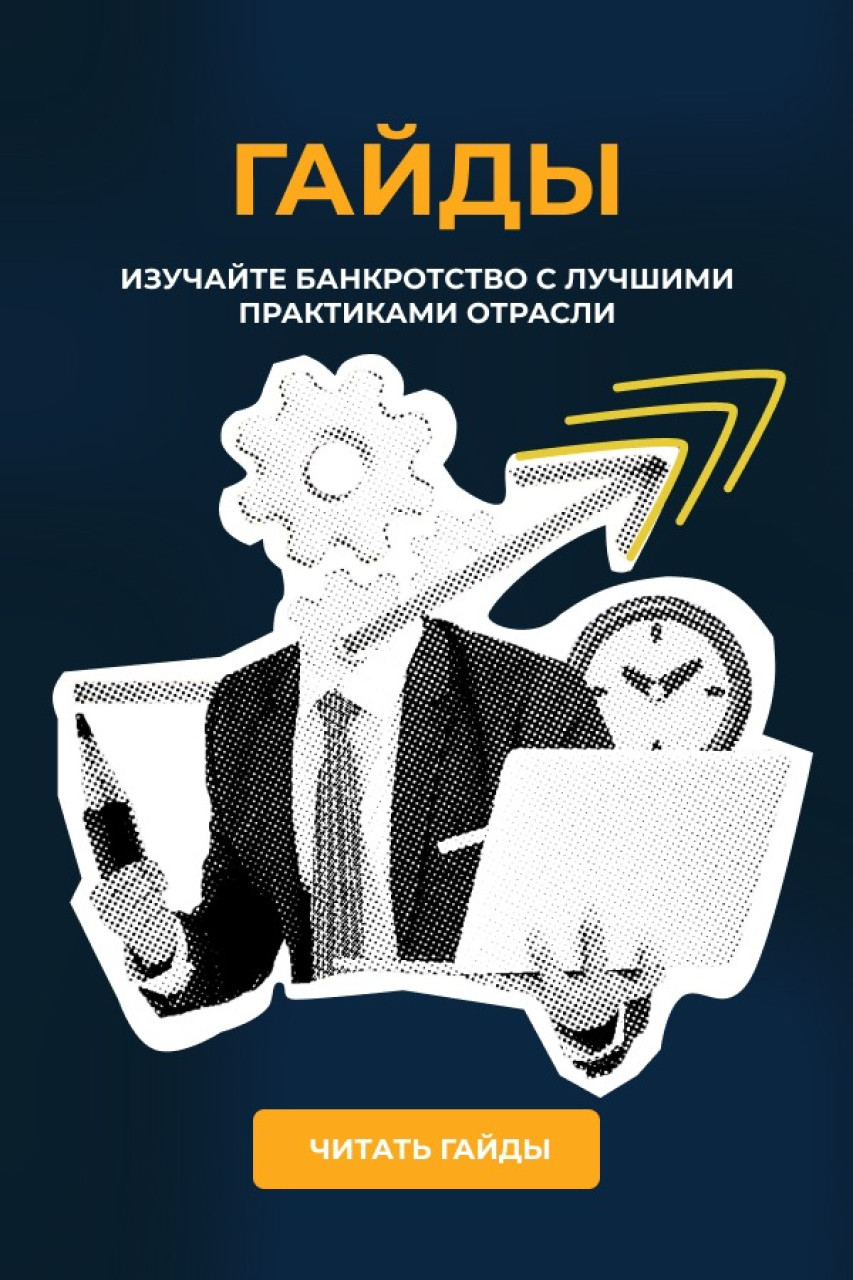Современный рынок устроен иначе, чем законы, которые его обслуживают. Холдинговые структуры, группы компаний, перекрестные потоки активов и обязательств стали стандартом деловой жизни. Но в банкротстве каждая компания по-прежнему существует «сама по себе» — независимо от реальных экономических связей. На уровне бизнеса — это группа. На уровне права — это десятки разрозненных процедур.
Такой разрыв между экономической и юридической реальностью создает не только процессуальные сложности. Он порождает системные риски: для кредиторов, для бенефициаров, для судов. В одном деле невозможно увидеть полную картину, оценить влияние внутригрупповых сделок, выявить схему «центров убытков». И пока законодатель молчит, суды вынуждены искать решения сами — на ощупь, без единого стандарта.
Судебная практика делает первые шаги
Материальная и процессуальная консолидация — пока больше предмет академических обсуждений и спорадических судебных решений, чем устоявшейся практики. И все же эти первые шаги уже делаются. Суды начинают объединять дела, устанавливать перекрестные связи, рассматривать компанию как часть группы, а не как обособленную единицу. Именно сейчас формируются подходы, которые завтра станут судебными шаблонами.
Материальная консолидация — это не инструмент наказания, а защита интересов кредиторов в ситуации, где экономическая граница между компаниями размыта. Это не подрыв правосубъектности, а способ минимизировать трансакционные издержки и устранить злоупотребления. Это — альтернатива субсидиарной ответственности, не требующая установления вины.
Аргументы противников — о росте стоимости кредита, нарушении разумных ожиданий и дискриминации кредиторов — разбираются последовательно и системно. Внимание акцентируется на фактических обстоятельствах: смешение активов, перекрестные залоги, позиционирование группы как единого лица в обороте. Консолидация — не разрушение права. Это его адаптация к реальности.
Процессуальная консолидация до сих пор остается в тени — хотя именно она может дать наибольший практический эффект: один суд, один судья, единая картина. Когда отдельные дела находятся в производстве разных составов, это ведет к фрагментации судебных решений. Единый познающий центр — не абстракция. Возможно, это механизм достижения правовой согласованности.
Главный вопрос: кто входит в группу?
Все выгоды материальной консолидации — на выходе. Но на входе возникает самый острый вопрос: как определить состав группы? Юридически — все не так просто. Один и тот же участник в двух компаниях с долями 50% и 5% — это группа или нет? А если остальные участники — номиналы? А если аффилированность была в прошлом?
Реестр формальных связей не отражает глубину реальных зависимостей. Использование критерия «фактической аффилированности» суды признают необходимым, но и опасным. Формальные связи — слишком узки. Фактические — слишком широки. Нужно найти баланс.
Центры прибыли и центры убытков
Практика показывает: нередко в группе одна компания аккумулирует прибыль, другая — убытки. Первая живет, вторая банкротится. Потом появляется новая «помойка» — и цикл продолжается. ВС РФ в деле «Рудгормаш» прямо указал на такую схему. Пока нет института консолидации, бенефициары продолжают перераспределять активы — а кредиторы несут убытки.
Почему уже сейчас важно вырабатывать возможные подходы?
Бизнесу сегодня уже недостаточно просто отслеживать тенденции. Формирование практики банкротства корпоративных групп переходит из стадии абстрактной дискуссии в фазу активного правоприменения. Судебные подходы к процессуальной и имущественной консолидации, критерии определения группы, правовые последствия внутригрупповых операций — все это прямо влияет на устойчивость корпоративной структуры, распределение ответственности и сохранность активов.
Отсутствие четкого регулирования не освобождает от рисков — наоборот, создает пространство для непредсказуемых решений, особенно в условиях отсутствия скоординированной профессиональной позиции со стороны бизнеса. И если бизнес не участвует в выработке подходов сегодня, завтра он может столкнуться с правовыми последствиями, на которые уже нельзя будет повлиять.
Практика и возможное законодательство по банкротству групп могут быть ужесточены не в интересах бизнеса — особенно если именно бизнес останется в стороне. Неучастие — это не нейтралитет, это молчаливое согласие с тем, что решения будут приниматься без учета его задач, рисков и структуры.
Своевременное участие в обсуждении, выработка позиции, предъявление аргументов — не формальность, а стратегическая необходимость для любого крупного бизнеса. Потому что именно холдинги и связанные компании могут понести наибольшие издержки, если правила игры окажутся не в их пользу.
Деловая встреча «Банкротство корпоративных групп: в поисках баланса между защитой прав кредиторов и свободой бизнеса», которую 22 апреля 2025 г. проведет Клуб системных кредиторов RECOVERY club, — это не просто обсуждение новой темы. Это шаг к выработке единых подходов. Пока у нас нет закона, но уже есть правовая необходимость и растущая судебная практика.
22 апреля 2025 г. в Москве RECOVERY club соберет экспертов — судей, юристов банков, арбитражных управляющих, представителей бизнеса, налоговых органов и научного сообщества, чтобы обсудить:
критерии признания группы лиц;
основания для консолидации дел и активов;
риски и возможности для кредиторов;
пути законодательного и практического развития института.
2025, Вт