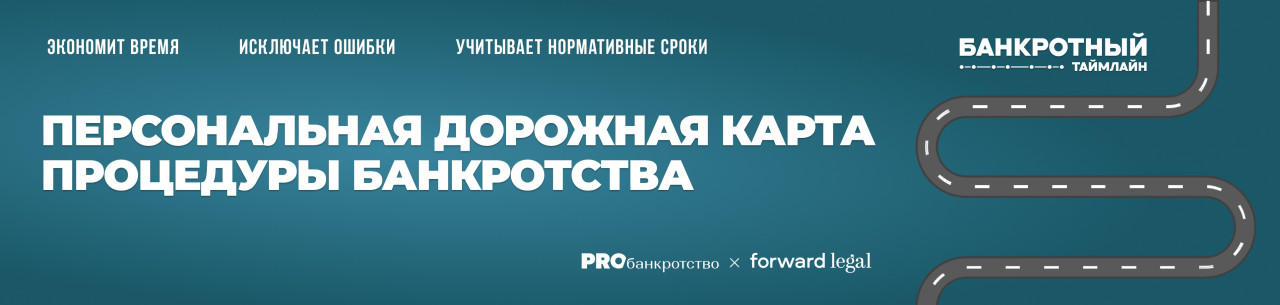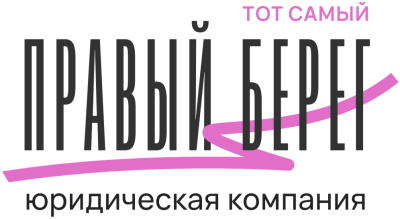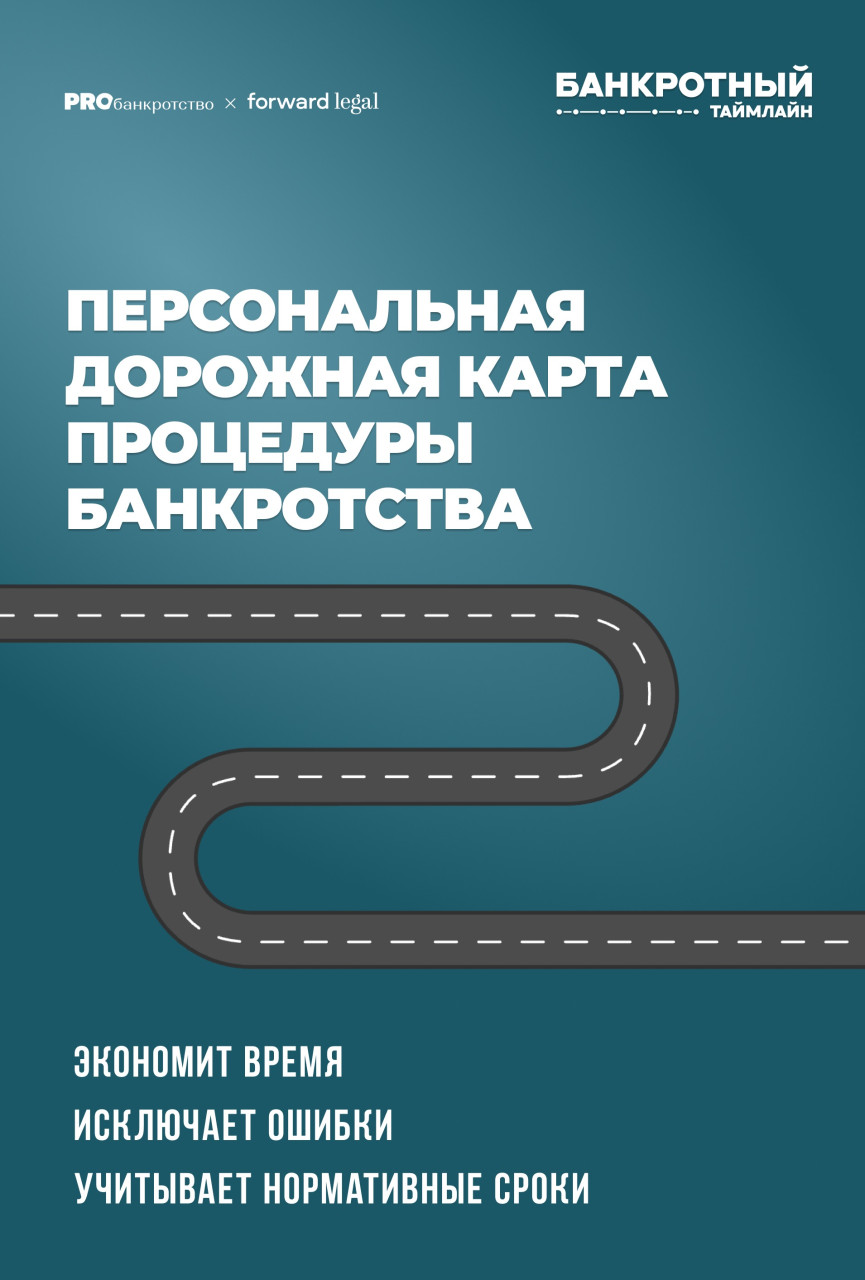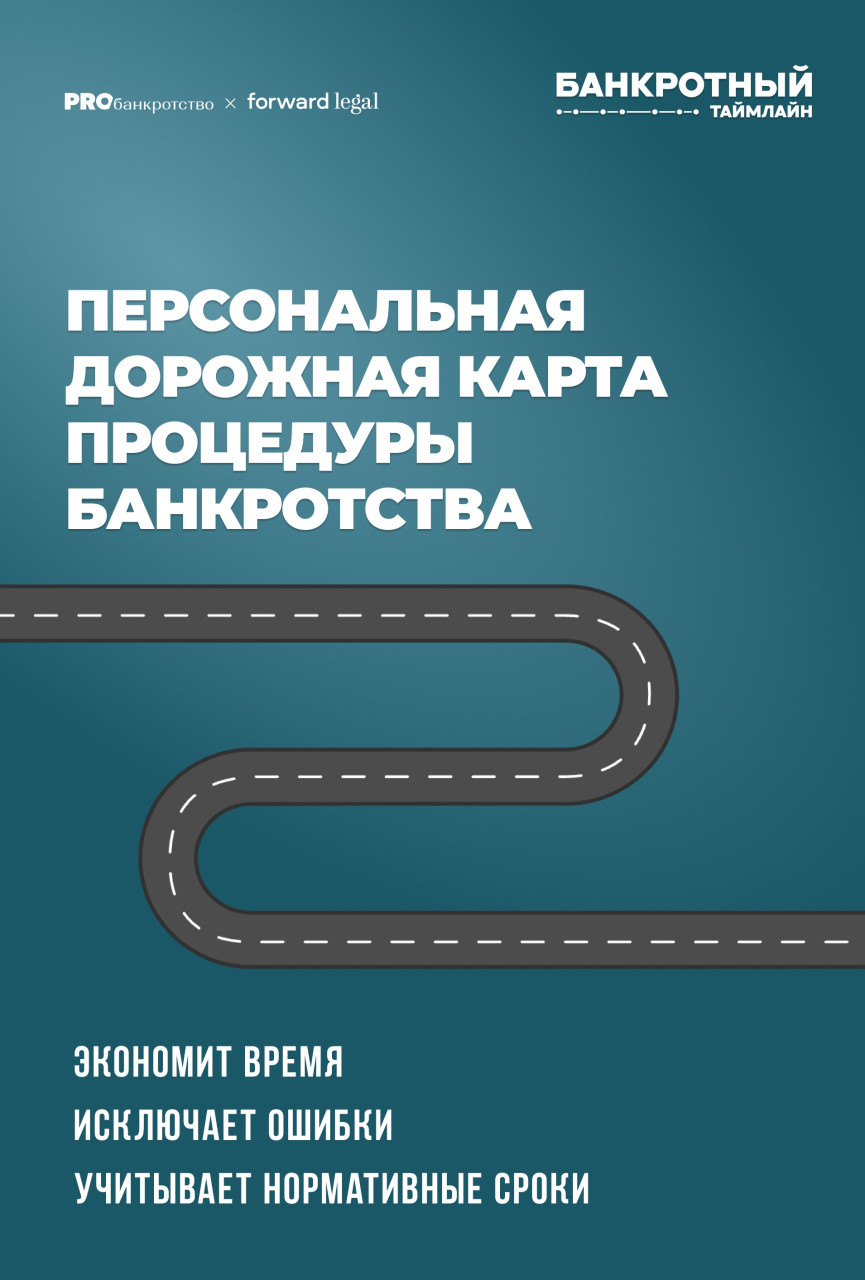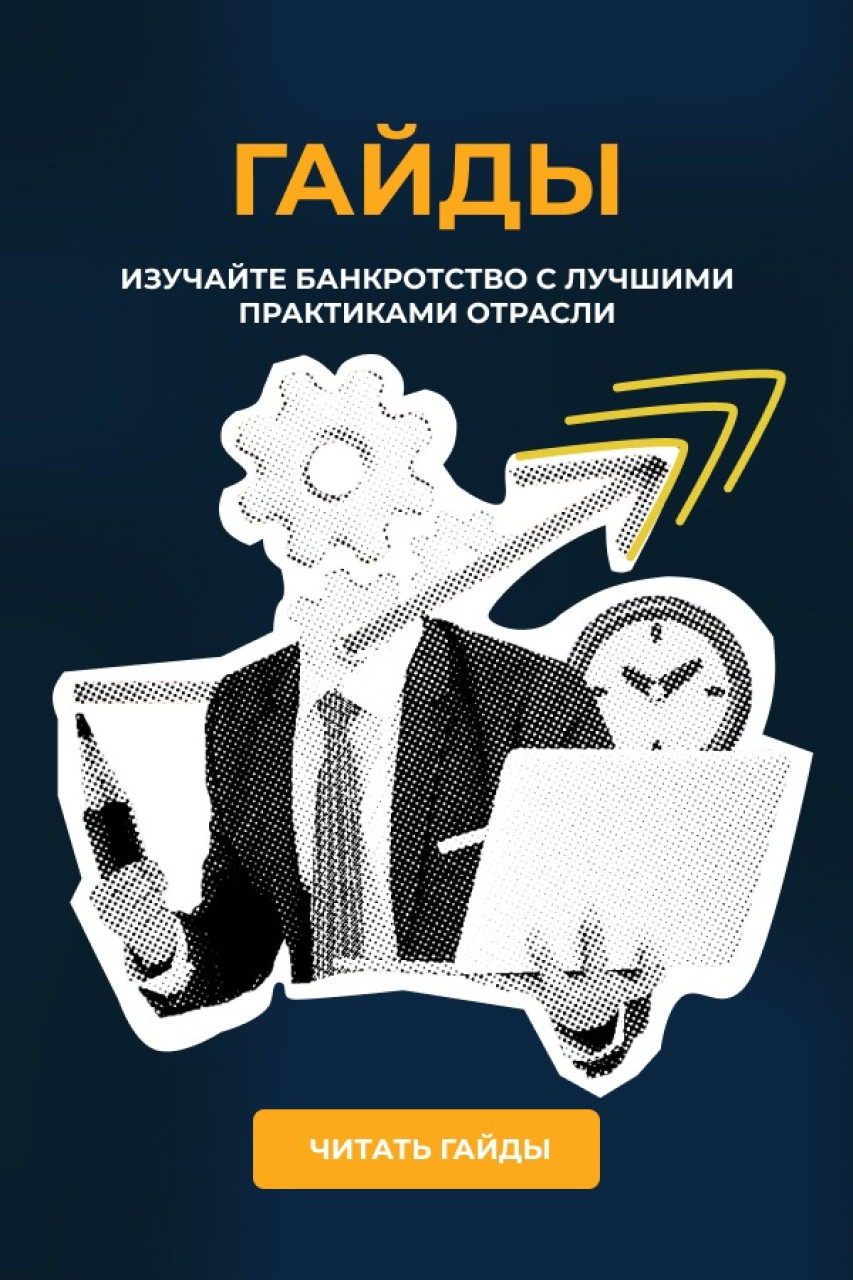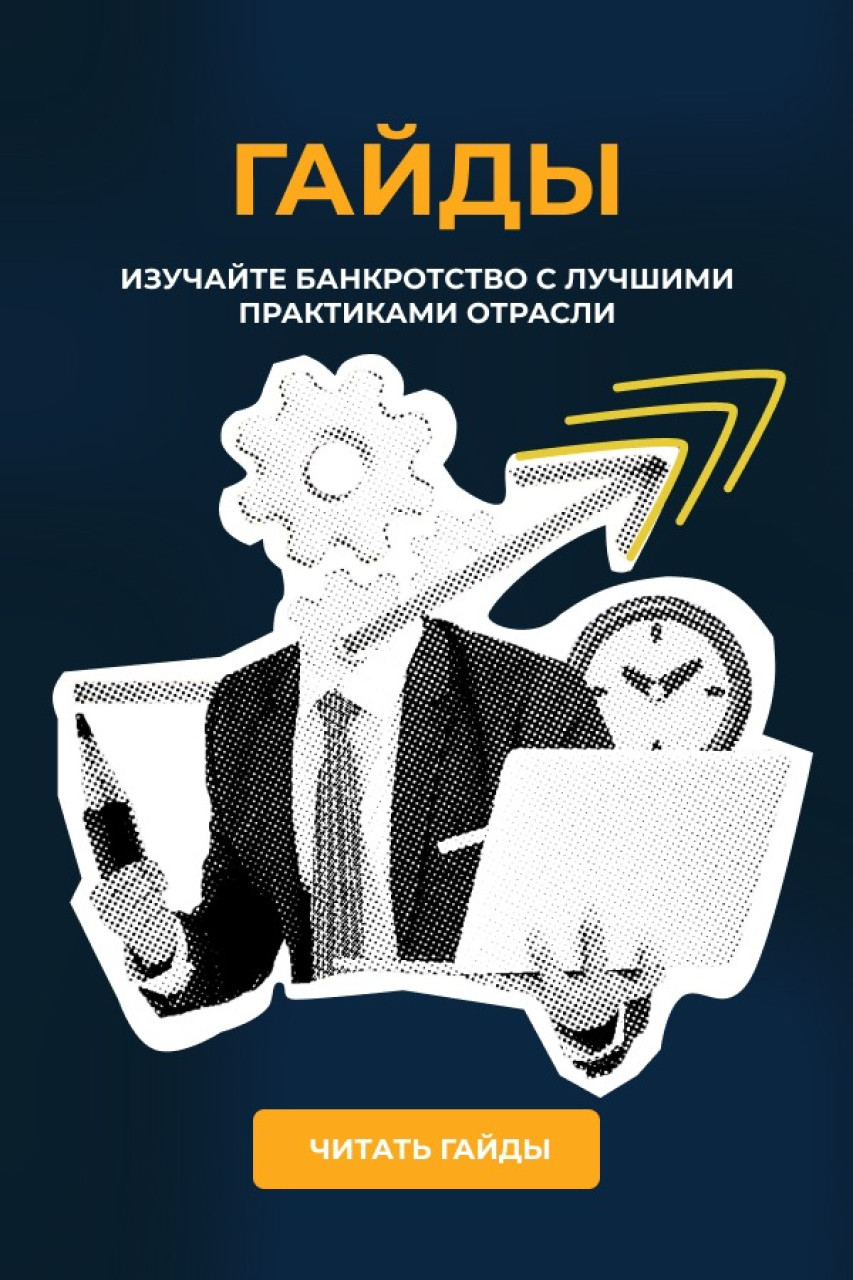Так, в одном из недавних дел Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) обсуждал условия применения в российском праве института, который в зарубежных правопорядках именуется как cram down. Правда, ВС РФ придумал его русский аналог – судебное преодоление (определение от 23.12.2024 № 305-ЭС24-11965).
Также как минимум в двух определениях ВС РФ обратил внимание на то, что исполнение мирового соглашения – это реабилитационная процедура (определения ВС РФ от 21.09.2023 № 308-ЭС20-3526 и от 30.01.2025 № 308-ЭС22-27464).
В сущности, также представляет собой внесудебную реабилитационную процедуру мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, предусмотренный статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), который на сегодняшний день вводился дважды: в ходе пандемии COVID-19 и с началом СВО.
В этой статье я хотел бы обратиться к перспективам применения внесудебных реабилитационных процедур и пояснить, как они могут работать уже сегодня.
1. Постановка проблемы. Неэффективность судебных реабилитационных процедур
Обратимся к статистическому бюллетеню Федресурса по банкротству за 2024 год. За указанный период процедура финансового оздоровления была введена всего в 12 случаях, а процедура внешнего управления – в 69 случаях. Всего судебные реабилитационные процедуры были введены по 0,9% дел. При этом количество реабилитационных процедур неуклонно снижается. Так, еще в 2015 году финансовое оздоровление было введено по 38 делам, а внешнее управление – по 434 делам; реабилитационные процедуры были введены по 3,5% дел (Банкротство в России. Статистический бюллетень Федресурса. Итоги 2024 года).
В делах о банкротстве граждан дела обстоят несколько лучше. Так, из года в год утверждается все больше планов реструктуризации долгов гражданина. В 2024 году было утверждено 1365 таких планов, что более, чем в 2 раза, превысило количество планов, утвержденных в 2023 году (675). Однако по сравнению с общим количеством процедур реализации имущества гражданина (431 942) это все равно «капля в море».
Причины столь низких показателей проведения реабилитационных процедур хорошо известны. Применительно к финансовому оздоровлению главное препятствие на пути его введения состоит в том, что участники должника для введения данной процедуры вопреки воле кредиторов должны предоставить банковскую гарантию на сумму, превышающую на 20% общий размер требований, включенных в реестр требований кредиторов (абзац 1 пункта 3 статьи 75 Закона о банкротстве).
Очевидно, что предоставить такую гарантию не так просто и для платежеспособного предприятия.
Применительно к внешнему управлению следует обратить внимание на то, что хотя оно и может быть введено без решения собрания кредиторов (абзац 4 пункта 2 статьи 75 Закона о банкротстве), если суд установит, что платежеспособность должника может быть восстановлена. Тем не менее, план внешнего управления утверждается собранием кредиторов (статья 107 Закона о банкротстве), а без его утверждения процедура, очевидно, двигаться не может.
Довершает картину то, что реабилитационная процедура в принципе может быть введена только по итогам процедуры наблюдения, а она, как правило, длится 5-7 месяцев, за которые деятельность должника часто совсем останавливается, поскольку в текущих реалиях никто не хочет иметь дела с потенциальным банкротом.
В этом плане юридическое сообщество уже достаточно давно ждет принятия проекта Федерального закона № 1172553-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Система обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы Российской Федерации).
Пункт 3 статьи 48 Закона о банкротстве в редакции законопроекта предусматривает возможность непосредственного введения процедуры реструктуризации долгов, правда, при условии предоставления весьма объемного по содержанию отчета о финансовом состоянии должника (статья 38.1 Закона о банкротстве в редакции законопроекта).
Применительно к плану реструктуризации долгов гражданина пункт 4 статьи 213.17 Закона о банкротстве в целом позволяет утверждать его вопреки воле собрания кредиторов. Однако этот пункт не смог избежать излишних ограничений для должника, например, условия о погашении не менее 50% требований кредиторов. На чрезмерный характер такого ограничения уже обращал внимание А.И. Шайдуллин (Телеграм-канал «Ничего нового для образованного юноши»; пост от 27.09.2024).
Однако как бы то ни было судебное банкротство всегда будет страдать тем недостатком, что оно длится долго и стоит дорого. Средняя продолжительность подобных процедур хоть и медленно, но растет. Так, длительность процедуры реализации имущества гражданина в 2024 году достигла 280 дней против 271 дня годом ранее, а длительность конкурсного производства – 1179 дней против 1123 дней годом ранее (Банкротство в России. Статистический бюллетень Федресурса. Итоги 2024 года).
По этой причине постепенно набирают ход институты, которые традиционно применялись в делах о банкротстве, но приобрели своих внесудебных «собратьев», а именно внеконкурсное оспаривание и внебанкротная субсидиарная ответственность.
Далее обратимся к иностранному опыту.
2. Pre-pack в Англии
Практика заключения pre-pack соглашений в Англии в значительной мере интересна в контексте обсуждения перспектив внесудебных реабилитационных процедур, поскольку она направлена на избежание длительных и сложных процедур судебного банкротства.
Если дословно переводить термин «pre-pack» на русский язык, то получится что-то вроде «заранее собранной сумки».
Интересно, что практика заключения pre-pack соглашений тесно связана с практикой так называемого «фениксизма», при котором обанкротившийся бизнес вскоре возрождался под иной вывеской, но с теми же или частично теми же бенефициарами. При этом требования кредиторов часто оказывались непогашенными.
Признавая в целом двусмысленный характер подобного явления, английские юристы вместо того, чтобы запрещать его, напротив, решили его легализовать, чтобы задать ему некие рамки.
Первой базовой посылкой для допущения заключения pre-pack соглашений послужило то, что обанкротившийся (но имеющий, тем не менее, некие перспективы) бизнес едва ли может быть кому-то интересен кроме его бенефициаров.
От себя добавлю то, что и вправду сторонний инвестор, скорее вложится в новое предприятие, нежели чем будет приобретать бизнес, обремененный прошлыми проблемами и долгами.
Второй базовой посылкой для заключения pre-pack соглашений является то, что законодательство о банкротстве не содержит запрета на продажу бизнеса должника аффилированному лицу при тех условиях, что:
факт такой аффилированности раскрыт должным образом;
продажа осуществляется по справедливой рыночной цене.
Важно отметить, что pre-pack соглашения далеко не всегда согласовываются с кредиторами, но, как правило, утверждаются судом.
(Подробнее см.: H. Anderson. The Framework of Corporate Insolvency Law. Oxford. 2017. С. 224-235).
Таким образом, в английском праве признание неудобного, но все же имеющего место быть факта (интерес к бизнесу должника, как правило, имеется только у аффилированных лиц), позволило наиболее кратким образом достичь оптимального для кредиторов результата и минимизировать их расходы на процедуру судебного банкротства.
В самом деле, если такая процедура была бы введена, и имущество должника продавалось бы на торгах, то при этом кредиторы получили бы все равно меньше, чем при реализации соглашения pre-pack, поскольку из их выручки неизбежно были бы вычтены расходы на проведение процедуры (а имущество было бы продано аффилированному лицу ввиду отсутствия интереса к нему у других участников рынка).
Для целей настоящей статьи также важно подчеркнуть, что значительная часть работы по достижению pre-pack соглашения осуществляется во внесудебном порядке, хотя бы оно и утверждалось судом. Следовательно, совсем без участия суда не обойтись даже во внесудебной процедуре банкротства.
3. Пример из русской классической литературы. Пьеса А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся»
В этой пьесе, написанной в 1849 году, приводится достаточно интересный, в том числе для современного банкротного права, пример попытки должника достичь внесудебного соглашения с кредиторами о погашении их требований.
Сразу необходимо оговориться, что речь в данной пьесе идет о весьма недобросовестном должнике, который на самом деле был платежеспособным. Так, в десятом действии первого акта главный герой, купец Большов, рассуждая о других купцах, намекает на то, что зачастую банкротами становятся богатые деятели, которые «на лежачих лесорах ездят, в трехэтажных домах живут; другой такой бельведер с колоннами выведет, что ему со своей образиной и войти-то туда совестно; а там и капут, и взять с него нечего». Незаметно он переходит на характеристику своих собственных кредиторов, указывая на то, что они «все люди богатые, что им сделается!»
При этом уже в этом действии мы узнаем, что должник намерен предложить своим кредиторам «по двадцати пяти копеек за рубль», предварительно выведя активы.
Далее уже в одиннадцатом действии мы узнаем, что банкротство купцов было тогда довольно распространено. Так, Большов читает в газете об объявлении банкротом купца первой гильдии Федота Селиверстова Плешкова.
В двенадцатом действии мы узнаем о проблемах банкротства того времени, весьма характерных для современного правоприменения.
Так, купец Большов жалуется, говоря о своих векселях, что «должников-то по ним, чай, и с собаками не сыщешь» (как здесь не вспомнить про нынешние проблемы взыскания дебиторской задолженности).
Не забыл он упомянуть и про продажу имущества должника: «На торги хошь не являйся: сбивают цены пуще чорт знает чего». Про проблемы проведения торгов в современном банкротном праве также написано немало (См.: Шевченко И.М. Императивность норм о проведении торгов в банкротстве: есть ли альтернатива).
В пятом действии второго акта мы узнаем, что кредиторы первоначально не были согласны на погашение лишь 25% от их требований. Как говорит приказчик Подхалюзин про Большова: «Вот он пошел по кредиторам: тот не согласен, другой не согласен; да так ни один-таки и нейдет на эту штуку».
При этом у купца имелось твердое намерение не платить кредиторам несмотря на наличие имущества. Так, в десятом действии второго акта он произносит следующие слова: «Да я лучше все огнем сожгу, а уж им ни копейки не дам!»
В четвертом действии четвертого акта мы узнаем, что кредиторы уже согласны получить по 25 копеек с рубля, однако сам приказчик Подхалюзин, на которого к тому времени было «переписано» имущество купца, был готов платить им лишь по 10 копеек с рубля, поскольку он «вот домик купил, заведеньице всякое домашнее завели, лошадок, то, другое».
В итоге для купца все заканчивается плачевно: его приказчик Подхалюзин, который мыслился изначально как мнимый собственник, стал фактически реально распоряжаться переведенным на него имуществом и отказался исполнять обязательства Большова. В результате главный герой попадает в долговую яму.
Важно подчеркнуть, что стряпчий Рисположенский (современный консультант средней руки), придумавший, в сущности, схему по «выводу активов», тоже оказывается ни с чем, поскольку Подхалюзин отказывается ему платить: «А за что — за мошенничество!».
Таким образом, несмотря на глубокую порочность героев пьесы она, тем не менее, показывает нам достаточно интересную картину того, как в XIX веке перед инициированием процедур банкротства в установленном порядке предпринимались попытки договориться с кредиторами о предоставлении скидки с долга. При этом договариваться в немалой степени побуждали проблемы процедур банкротства: затруднительность взыскания дебиторской задолженности и неэффективность торгов.
(Текст пьесы размещен на интернет-сайте).
4. Совместное судебное заседание как важный инструмент для внесудебной реструктуризации
В пункте 5 постановления Пленума ВС РФ от 17.12.2024 № 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая 2024 года № 107-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"» содержится важная новелла, которая, на мой взгляд, способна существенно упростить утверждение судом реабилитационных планов, разработанных на досудебной стадии.
В указанном пункте идет речь о том, что суд может в одном заседании рассмотреть сразу несколько заявлений о признании должника банкротом.
Ранее, я напомню, такая возможность была допущена в конкретном деле, рассмотренном ВС РФ (определение от 15.08.2016 № 308-ЭС16-4658).
Ввиду того, что данная позиция была отражена лишь в определении по конкретному делу, она не получила широкого распространения в судебной практике, хотя некоторые случаи ее применения все же имеются (см., например, определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, далее – АС СПб и ЛО, от 24.05.2018 по делу № А56-19962/2017).
Напомню, что по общему правилу, предусмотренному пунктом 8 статьи 42 и пунктом 4 статьи 48 Закона о банкротстве, заявления о признании должника банкротом рассматриваются в последовательности их поступления в суд.
Однако при таком подходе, то есть когда кредиторы выстраиваются в «очередь», намного труднее обсуждать реструктуризацию задолженности по сравнению с ситуацией, когда бы они были выстроены перед судом «шеренгой».
Общим правилом при проведении реструктуризации задолженности является то, что реструктуризировать нужно всех вместе, а не по отдельности. Даже если те или иные кредиторы готовы получить удовлетворение своих требований после других, такой порядок можно предусмотреть только с их согласия.
К слову, иногда на практике задолженность на стадии возбуждения дела о банкротстве реструктуризировалась путем постепенного погашения должником (или связанными с ним лицами) требований кредиторов в порядке поступления заявлений в суд (своеобразная «реабилитация по-русски»). Не нужно объяснять, почему такой вариант реабилитации недопустим. Обращу внимание лишь на то, что иногда между обращениями в суд с заявлениями о признании должника банкротом проходит одна минута (см., например, два определения АС СПб и ЛО от 19.10.2015 по делу № А56-75891/2015).
Проведение же совместных заседаний способно пресечь подобную практику. Собственно, именно по этой причине ВС РФ в определении от 15.08.2016 № 308-ЭС16-4658 и предложил судам проводить совместные заседания по рассмотрению сразу нескольких заявлений о признании должника банкротом.
Далее напомню, что пункт 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – Постановление № 35) допускает заключение мирового соглашения на стадии возбуждения производства по делу с отдельным заявителем. Заключение подобного соглашения ведет к прекращению производства по делу, если заявитель один, и к прекращению производства по заявлению, если имеются последующие заявления о признании должника банкротом.
При проведении совместного судебного заседания появляется возможность договориться сразу с несколькими заявителями, в том числе предварительно, то есть в досудебном порядке, и утвердить достигнутые договоренности в порядке пункта 12 Постановления № 35.
Думаю, что такой подход станет важным шагом в развитии досудебных реабилитационных процедур.
5. Проблема распространения условий мирового соглашения на лиц, не участвующих в деле
Эта проблема уже достаточно давно обсуждается в отечественной правовой литературе. Так, еще Г.Ф. Шершеневич писал о том, что действие мирового соглашения следует распространить на кредиторов, не участвующих в деле о банкротстве, поскольку при ином подходе последние могут дождаться прекращения дела о банкротстве, чтобы добиться удовлетворения своих требований в индивидуальном порядке (Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. М., 2003. С. 527).
Однако современное законодательство в части мировых соглашений не вняло призыву известного правоведа.
Так, в пункте 4 статьи 154 Закона о банкротстве указано, что действие мирового соглашения, заключенного в ходе процедуры конкурсного производства, распространяется только на тех кредиторов, чьи требования включены в реестр требований кредиторов.
Пункт 1 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве), направленного в суды информационным письмом Президиума ВАС РФ от 20.12.2005 № 97, распространяет действие этого положения на все прочие процедуры (тезис пункта сформулирован общим образом).
Определенные подвижки в регулировании обсуждаемого вопроса появились в связи с принятием и вступлением в силу 01.10.2015 Федерального закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ, которым в законодательство о банкротстве включены нормы о банкротстве граждан.
В пункте 1 статьи 213.14 Закона о банкротстве, посвященном содержанию плана реструктуризации долгов гражданина, указано, что такой план должен содержать положения о порядке и сроках погашения всех кредиторов, известных гражданину на дату направления плана кредиторам.
Поскольку законодатель акцентировал внимание именно на известных должнику кредиторах, а не на кредиторах, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, то из этого можно заключить, что требования кредиторов, не включенные в реестр требований кредиторов, также указываются в плане, и устанавливается порядок их удовлетворения.
Подобное понимание указанного пункта отражено, например, в определении АС СПб и ЛО от 29.12.2022 по делу № А56-48397/2022.
Однако при таком подходе возникает закономерный вопрос о допуске в судебное заседание лиц, которые не заявили своих требований к должнику (не обратились с заявлениями о признании его банкротом).
Феномен участия в судебных заседаниях и допущение совершения отдельных процессуальных действий лицами, не наделенными формально процессуальным статусом, постепенно находит себе дорогу в законодательстве и судебной практике.
Так, абзац 3 пункта 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 29.05.2024 № 107-ФЗ) предусматривает, что возражения относительно требований кредиторов могут быть заявлены лицом, не имеющим объективную возможность предъявить требования к должнику.
В абзаце 2 пункта 26 постановления Пленума ВС РФ от 17.12.2024 № 40 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона от 29 мая 2024 года № 107-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"» конкретизировано содержание данной нормы. К лицам, управомоченным заявлять возражения, отнесены, в частности, кредиторы, которые не подали заявления о банкротстве должника, но которые возражают против введения процедуры наблюдения по заявлению другого лица (при рассмотрении его заявления в порядке статьи 48 Закона о банкротстве).
От этого разъяснения остается один шаг к тому, чтобы сказать, что в судебном заседании по утверждению мирового соглашения на стадии возбуждения производства по делу вправе участвовать кредиторы, требования которых указаны в этом мировом соглашении, но которые не обратились с заявлениями о признании должника банкротом.
Такое участие позволит соблюсти их интересы при утверждении подобного соглашения.
6. Как быть с несогласными кредиторами?
Для начала нужно заострить внимание на принципиальном различии между мировыми соглашениям, заключаемыми по общим нормам Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), с одной стороны, и мировыми соглашениями, заключаемыми по правилам Закона о банкротстве, с другой стороны.
Во втором случае решение о заключении мирового соглашения от имени кредиторов принимается большинством их голосов (пункт 2 статьи 150 АПК РФ), то есть имеет место принуждение меньшинства большинством.
Напротив, для заключения мирового соглашения по общим нормам АПК РФ необходимо согласие всех заинтересованных лиц (при рассмотрении искового дела это истец и ответчик).
В пункте 12 Постановления № 35 в отношении мировых соглашений, заключаемых на досудебной стадии, говорится о том, что к ним применяются правила главы 15 АПК РФ.
И потому неизбежно возникает вопрос о распространении условий мирового соглашения на несогласных кредиторов.
Действующему правопорядку известны примеры преодоления воли лиц, чье согласие требуется для наступления юридически значимых последствий, но которые не дают своего согласия, причем явно недобросовестным образом.
Так, абзац 3 пункта 21 постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» позволяет преодолеть несогласие должника, возражающего против привлечения за счет конкурсной массы специалиста для обеспечения деятельности финансового управляющего, если такое привлечение необходимо с учетом специфики и объема требующейся к выполнению работы.
Абзацем 3 пункта 30 того же постановления предусмотрено, что план реструктуризации задолженности может быть утвержден вопреки согласию должника, если он явно злоупотребляет правом, например, не имеет имущества для его реализации и удовлетворения за счет выручки требований кредиторов, однако имеет стабильный высокий доход.
На возможность преодоления несогласия залогового кредитора с планом реструктуризации задолженности указано в определении ВС РФ от 23.12.2024 № 305-ЭС24-11965.
При этом критерием для преодоления такого несогласия является принцип реабилитационного паритета: несогласный кредитор не может быть поставлен в положение, худшее, чем положение тех кредиторов, которые одобрили реабилитационный план (или заключение мирового соглашения).
Впервые в отечественном правопорядке данный принцип был сформулирован в пункте 18 Обзора и повторен в вышеуказанном определении от 23.12.2024 № 305-ЭС24-11965.
Таким образом, если кредитор, возражающий против утверждения мирового соглашения, этим соглашением поставлен в такие же условия, как и кредиторы, одобрившие заключение соглашения, то его несогласие с утверждением мирового соглашения может быть квалифицировано как злоупотребление правом.
Вывод
Итак, выше описан алгоритм, при котором условия внесудебной реабилитации сначала разрабатываются вне рамок судебной процедуры, а затем утверждаются судом на этапе возбуждения производства по делу о банкротстве. Все вышесказанное, конечно, не означает, что суд утвердит любое соглашение, разработанное подобным способом. Однако общий вектор, по которому можно двигаться, я сформулировал.
Позиция, отраженная в настоящей статье, является личным мнением автора и не может рассматриваться как официальная позиция Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.