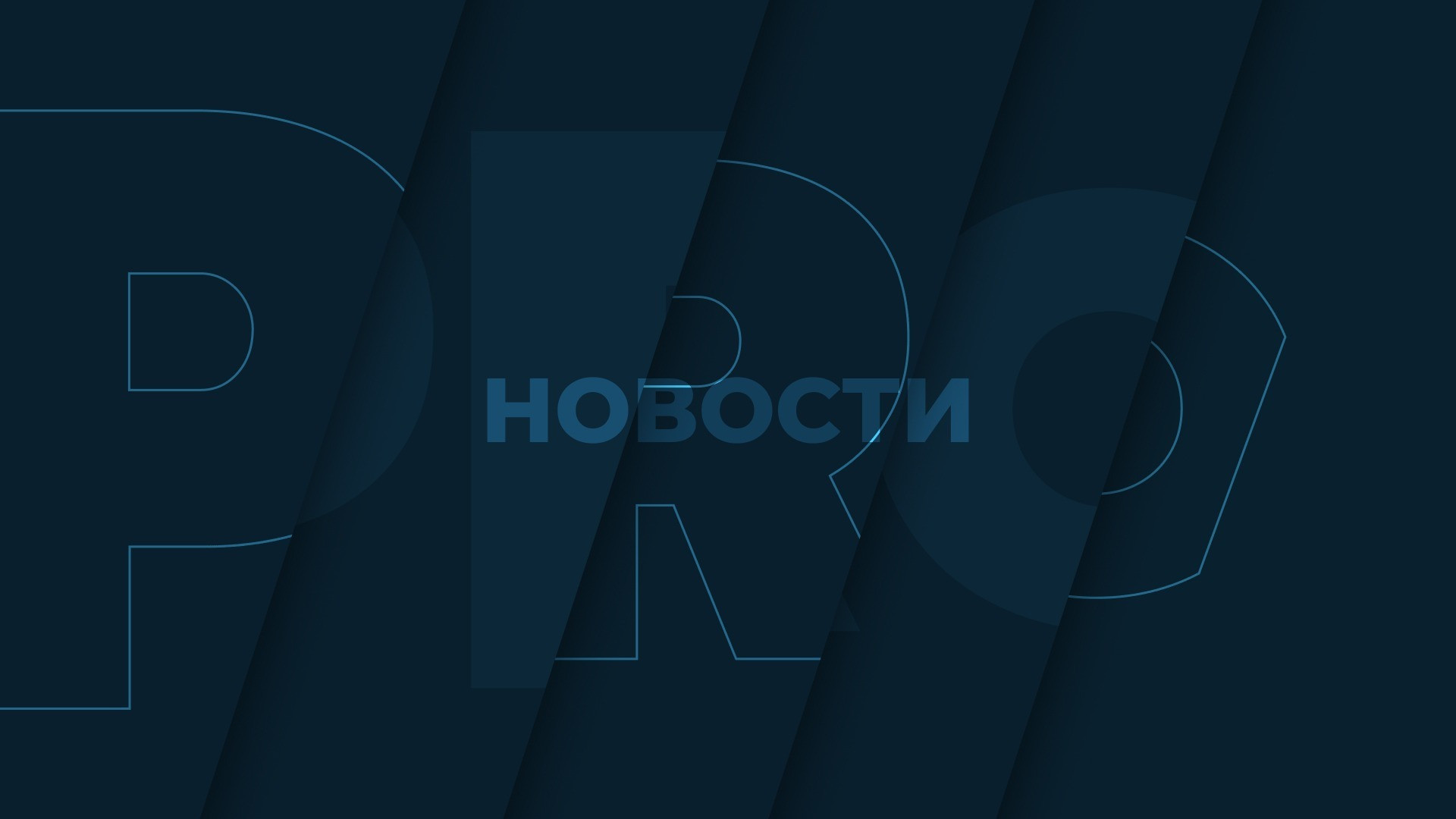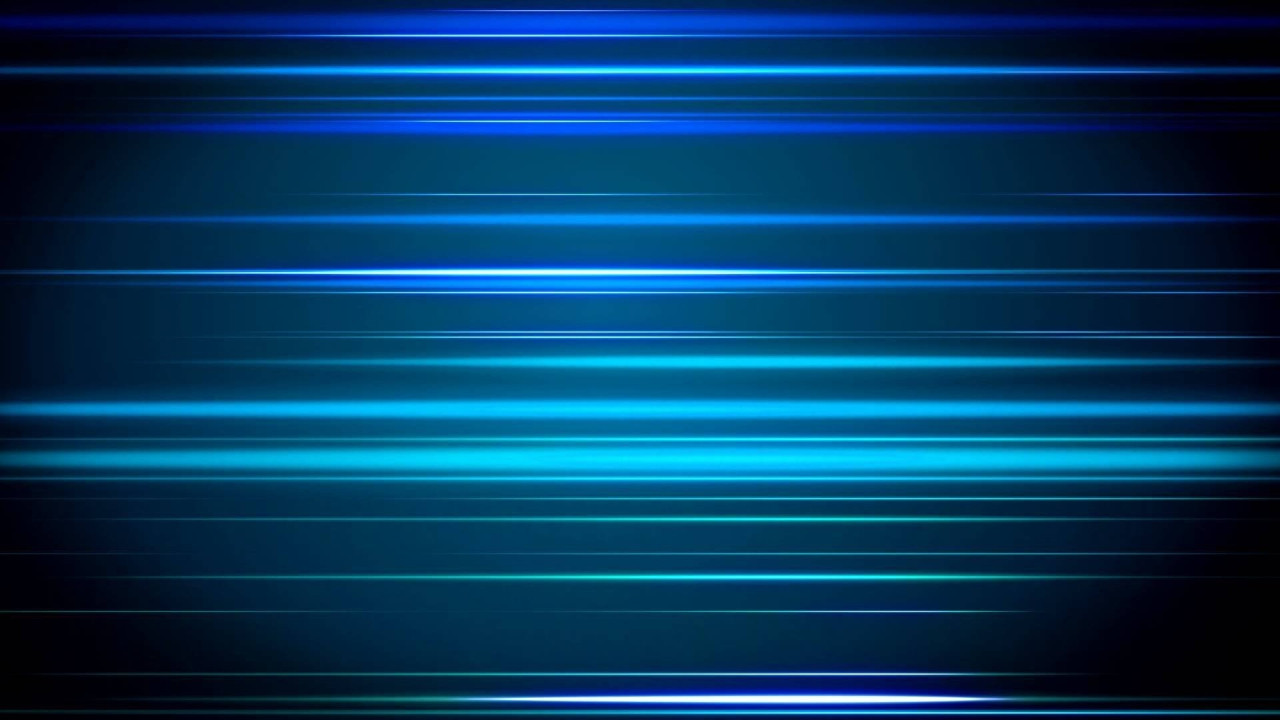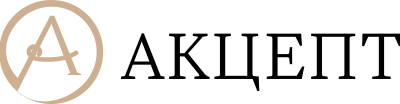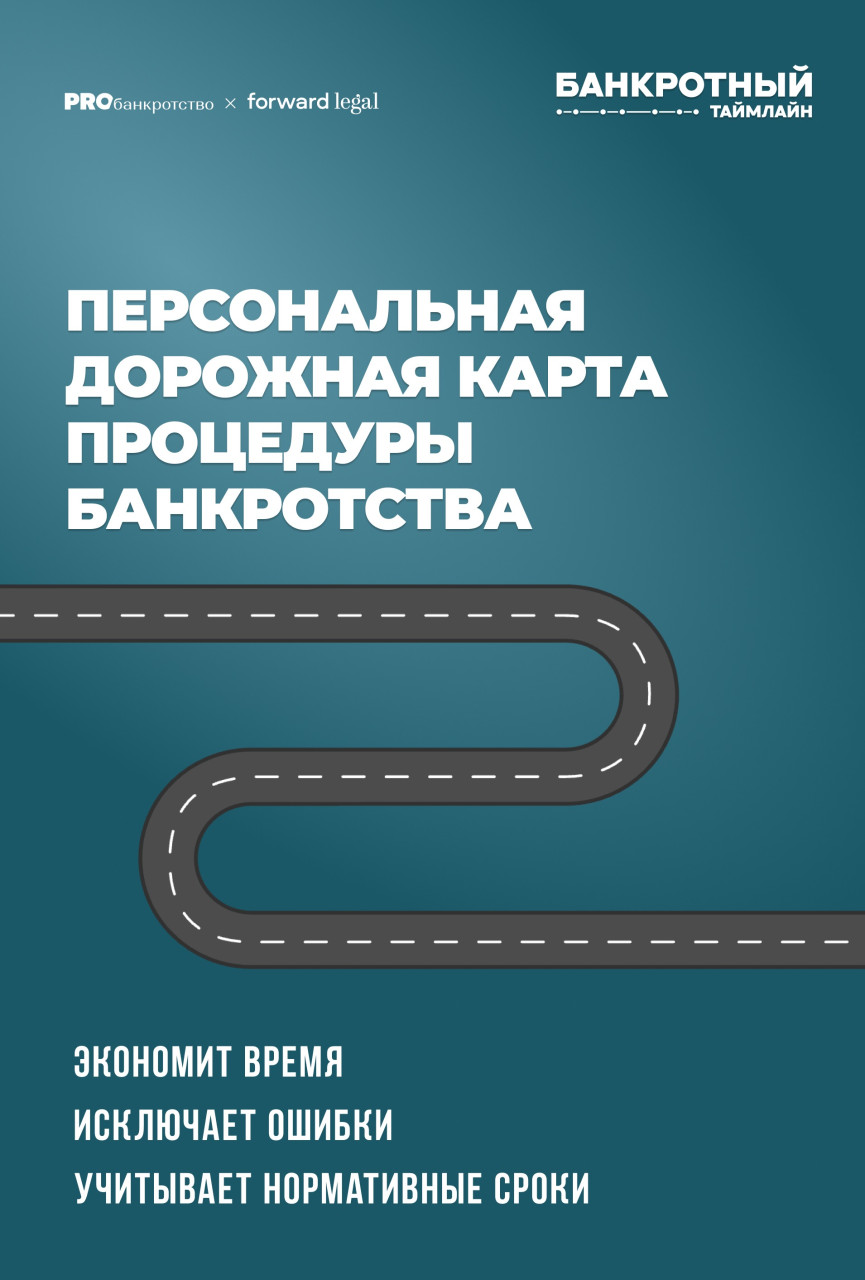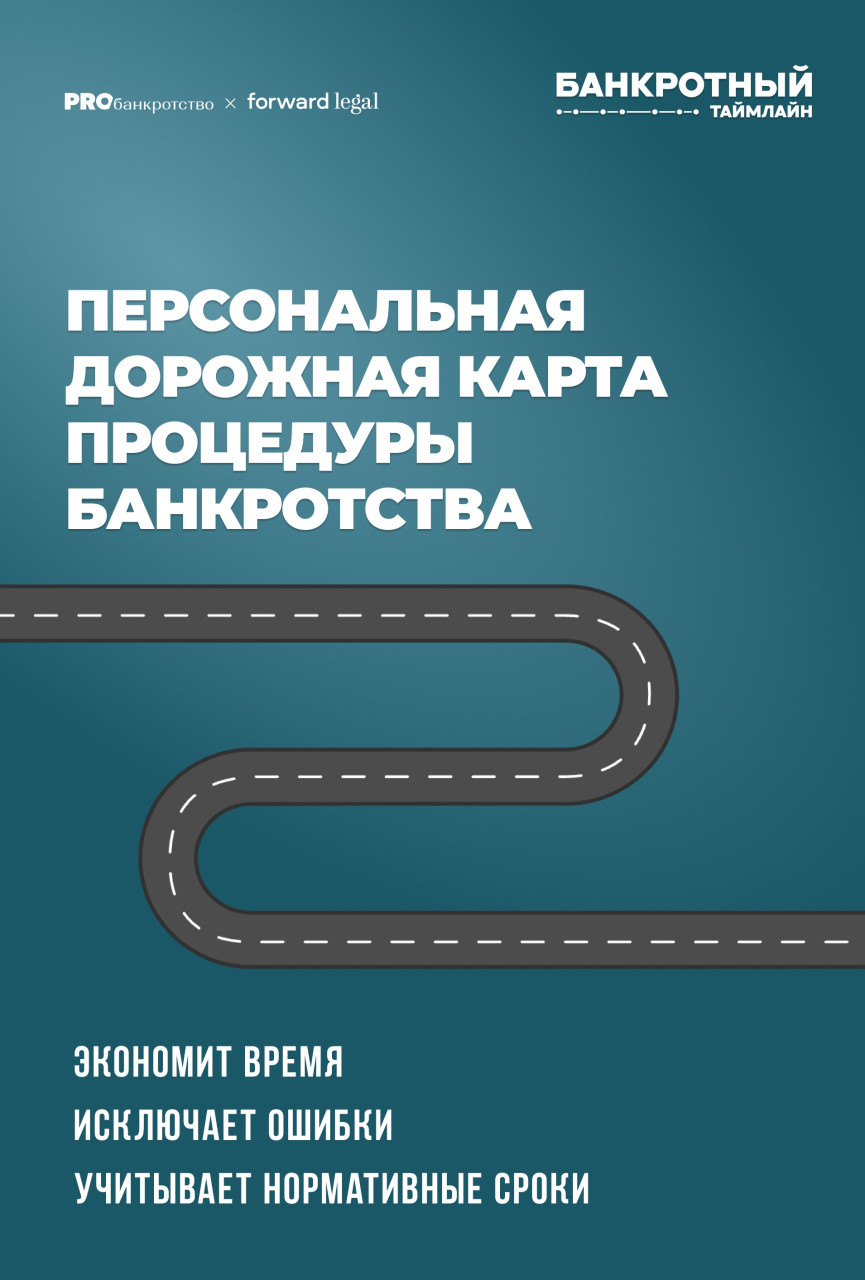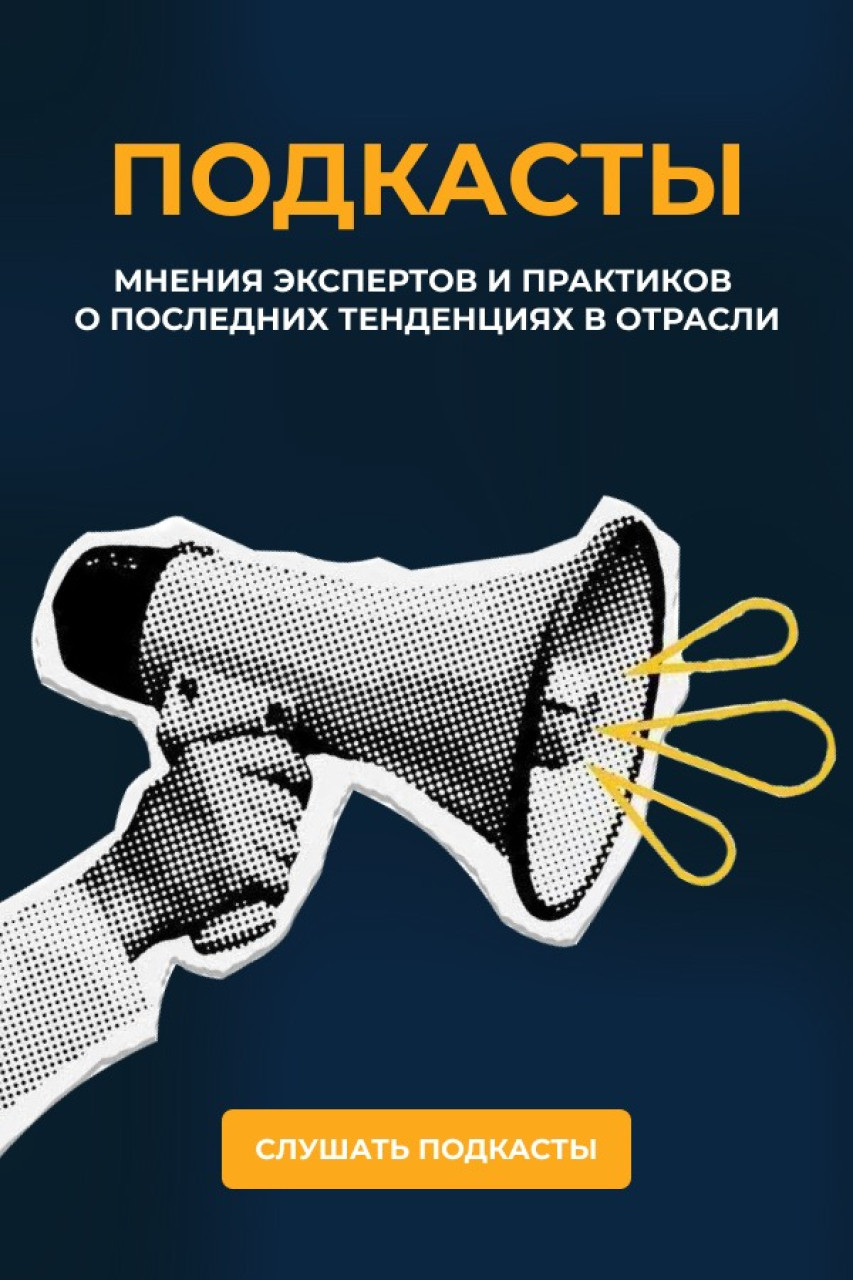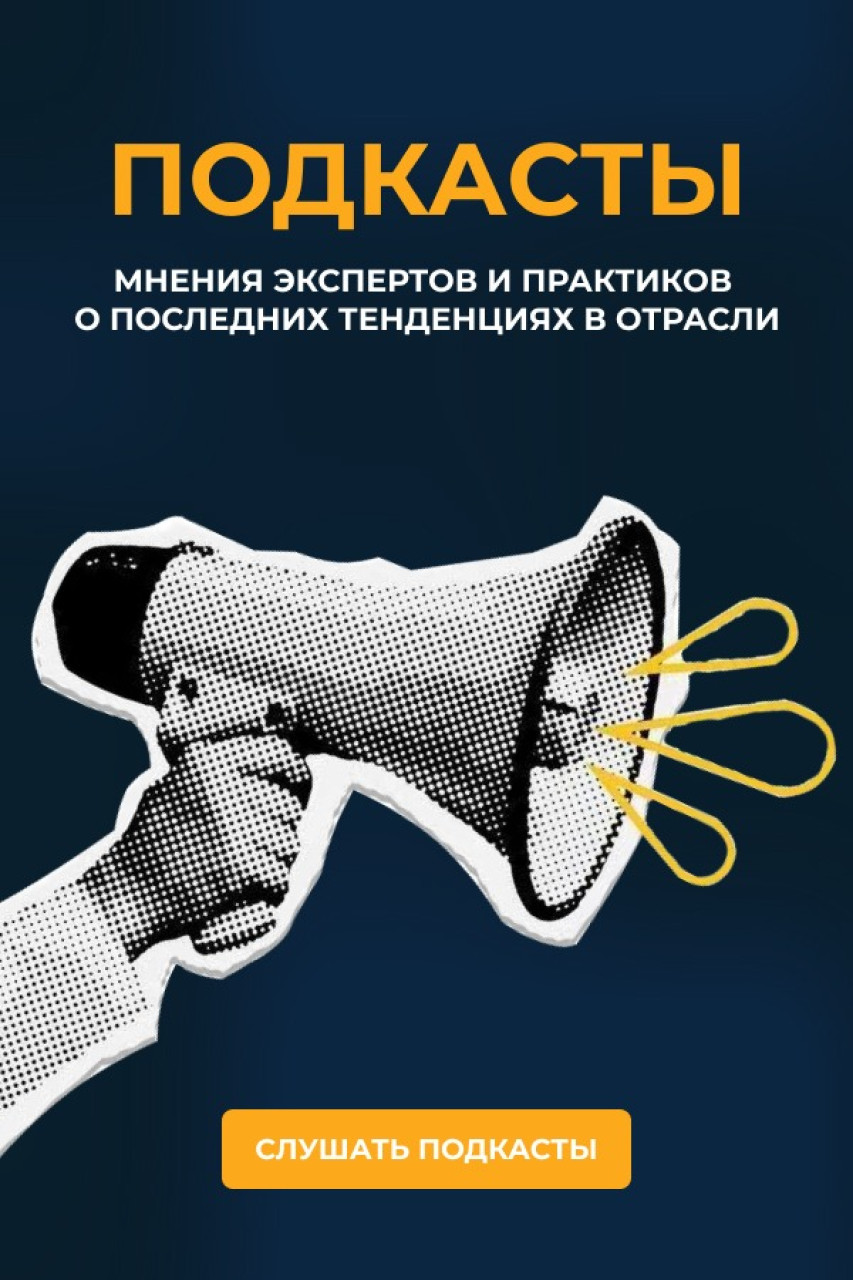В рамках дела о банкротстве АО «Русская перевозочная компания» конкурсный управляющий Анастасия Наумова обратилась в суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Евгения Коржакова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования КУ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих инстанций и направил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции (дело № А40-268682/2021).
Фабула
В рамках дела о банкротстве АО «Русская перевозочная компания» конкурсный управляющий Анастасия Наумова обратилась в суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника Евгения Коржакова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования конкурсного управляющего. Евгений Коржаков обратился в Арбитражный суд Московского округа, рассказал ТГ-канал «Субсидиарная ответственность».
Что решили нижестоящие суды
Суды первой и апелляционной инстанций привлекли Евгения Коржакова к субсидиарной ответственности. Суды сослались на совершение Коржаковым сделок, причинивших вред АО «Русская перевозочная компания» и признанных судом недействительными, поскольку они были совершены в неблагоприятных для должника экономических обстоятельствах и причинили вред имущественным правам кредиторов.
Также суды указали на неподачу Коржаковым заявления о признании АО «Русская перевозочная компания» банкротом не позднее 30 апреля 2021 г., когда должник объективно не мог исполнять свои обязательства перед кредиторами.
Наконец, Коржаков не исполнил обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации АО «Русская перевозочная компания».
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Суды не исследовали вопрос о том, могли ли сделки, признанные недействительными, послужить причиной объективного банкротства АО «Русская перевозочная компания» или привести к утрате возможности восстановления его платежеспособности. Само по себе признание сделки недействительной не влечет автоматического привлечения к субсидиарной ответственности.
Суды не учли, что по признанным недействительными сделкам были применены последствия недействительности в виде возврата денежных средств в конкурсную массу АО «Русская перевозочная компания». Часть сделок была совершена после даты возникновения признаков объективного банкротства.
Не получили оценки доводы Коржакова о том, что причиной объективного банкротства АО «Русская перевозочная компания» стало расторжение договора аренды вагонов с АО «ГТЛК» в середине 2021 г., в результате чего должник лишился основных активов.
Также суды не исследовали вопрос о существенности причиненного кредиторам вреда в результате признанных недействительными сделок с учетом масштабов деятельности АО «Русская перевозочная компания».
Привлекая Коржакова к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве, суды не указали, какие именно обязательства и перед какими кредиторами возникли после 30 апреля 2021 г.
Кроме того, остались без оценки доводы Коржакова о том, что несовершение им действий по обращению с заявлением о банкротстве АО «Русская перевозочная компания» было связано с временными финансовыми затруднениями в условиях продолжения хозяйственной деятельности и наличия возможности получения финансирования.
Наконец, привлекая Коржакова к субсидиарной ответственности за непередачу документации, суды не проверили его доводы о передаче части документов и о том, что отсутствие документации не повлекло существенного затруднения проведения процедуры банкротства.
Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил определение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда и направил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Почему это важно
Полина Чижикова, партнер Юридической компании IMPRAVO, отметила, что очевидные нарушения норм права судов нижестоящих инстанций в части привлечения к субсидиарной ответственности за совершение недействительных сделок заключаются в двух обстоятельствах:
не оценен факт исполнения судебных актов о признании сделок недействительными;
не оценена возможность переквалификации субсидиарной ответственности в убытки.
Нарушения по первому пункту, уточнила она, заключаются в том, что судами фактически допущена двойная ответственность. В самом факте наличия двух судебных актов о признании сделки недействительной и о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности за такую сделку нет нарушения, однако если акт о применении последствий недействительности сделки исполнен в полном объеме, КДЛ не подлежит привлечению к ответственности.
Вопрос разграничения субсидиарной ответственности и убытков, по ее словам, сложнее: суду надлежит оценить, насколько сильно недействительная сделка повлияла на банкротство должника, то есть как она соотносится с масштабами деятельности и периодом возникновения признаков банкротства.
Оценка этих обстоятельств производится судом на основании внутреннего убеждения, при этом зачастую для разграничения убытков и субсидиарной ответственности суды ориентируются на письмо ФНС России от 16 августа 2017 г. № СА-4-18/16148@: все недействительные сделки с активами на сумму, эквивалентную 20–25% балансовой стоимости имущества должника, – это основание для субсидиарной ответственности; вывод ключевого имущества, необходимого для продолжения хозяйственной деятельности, – безусловно, субсидиарная ответственность. В данном деле позиция кассатора была принята именно по той причине, что он раскрыл, какие именно события привели к невозможности продолжения должником хозяйственной деятельности и повлекли банкротство, и этими событиями не являлись сделки, впоследствии признанные недействительными.
По мнению Кирилла Степанова, управляющего партнера Юридической компании «Команда Степанова», постановление Арбитражного суда Московского округа содержит в себе весьма правильную и уже давно не новую мысль.
Она касается того, что при привлечении к субсидиарной ответственности по основанию невозможности удовлетворения требований кредиторов, которая случилась в результате заключения невыгодных сделок, действительно, важно оценить масштаб этих сделок: насколько заключение таких сделок могло привести компанию к банкротству. В том случае, если сделки не соответствуют масштабу деятельности компании, необходимо взыскивать с контролирующего должника лица убытки в размере цены сделки.
Окружной суд подчеркивает важность понимания того, что недействительность сделки не всегда влечет существенные убытки для кредиторов, указал Дмитрий Сурчаков, партнер Юридической фирмы «Степачков и Сурчаков», а вопрос привлечения руководителя компании-должника к субсидиарной ответственности, по его словам, в каждом конкретном случае должен быть подтвержден более глубокой оценкой суда.
Так, при оценке существенности вреда необходимо рассматривать не только формальные признаки, но и учитывать все обстоятельства дела, включая масштаб и структуру деятельности компании-должника, а также вред, причиненный совершением недействительных сделок, пояснил он.
Решение, несомненно, станет одним из ориентиров и будет служить основой для создания более точных и справедливых критериев оценки ущерба от недействительных сделок в будущем. Теперь для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности необходимо будет проводить более подробную и индивидуализированную оценку каждого случая, что повысит качество судебных решений и сбалансирует интересы кредиторов и права должников.