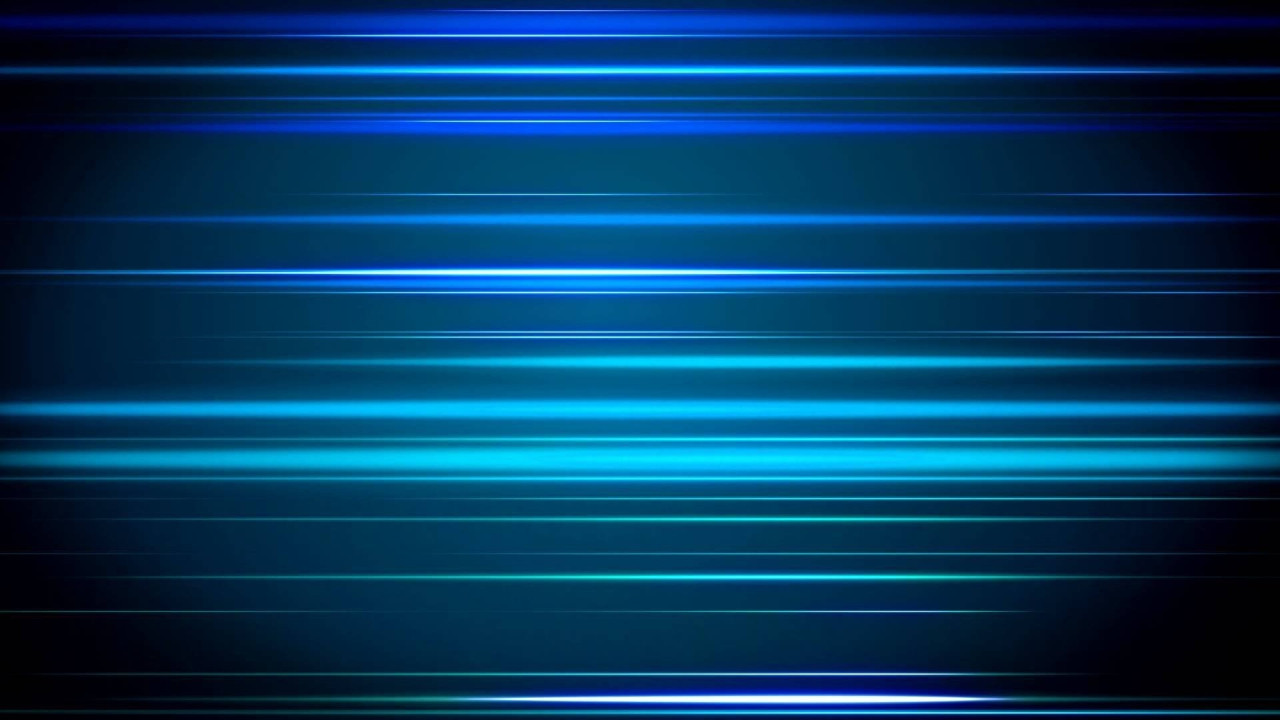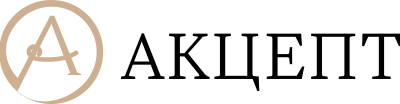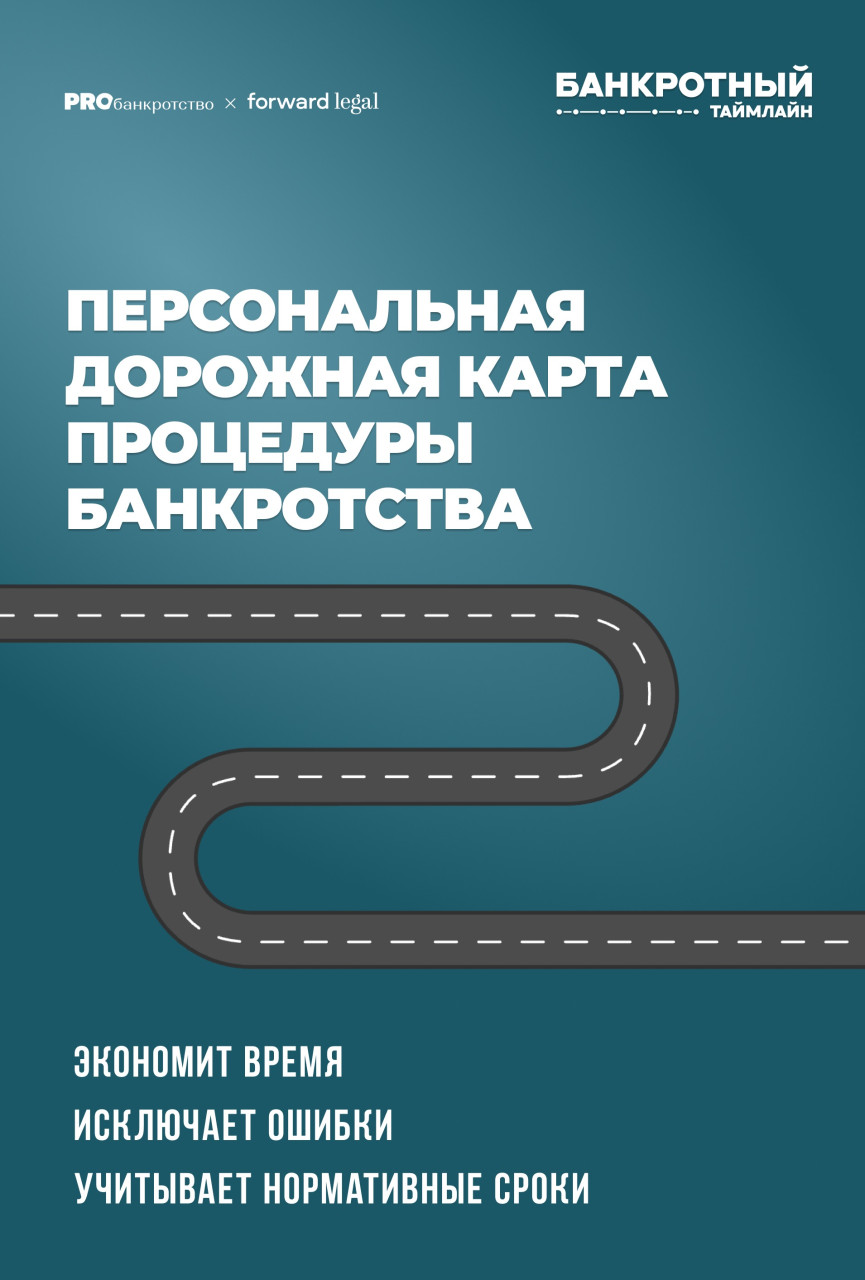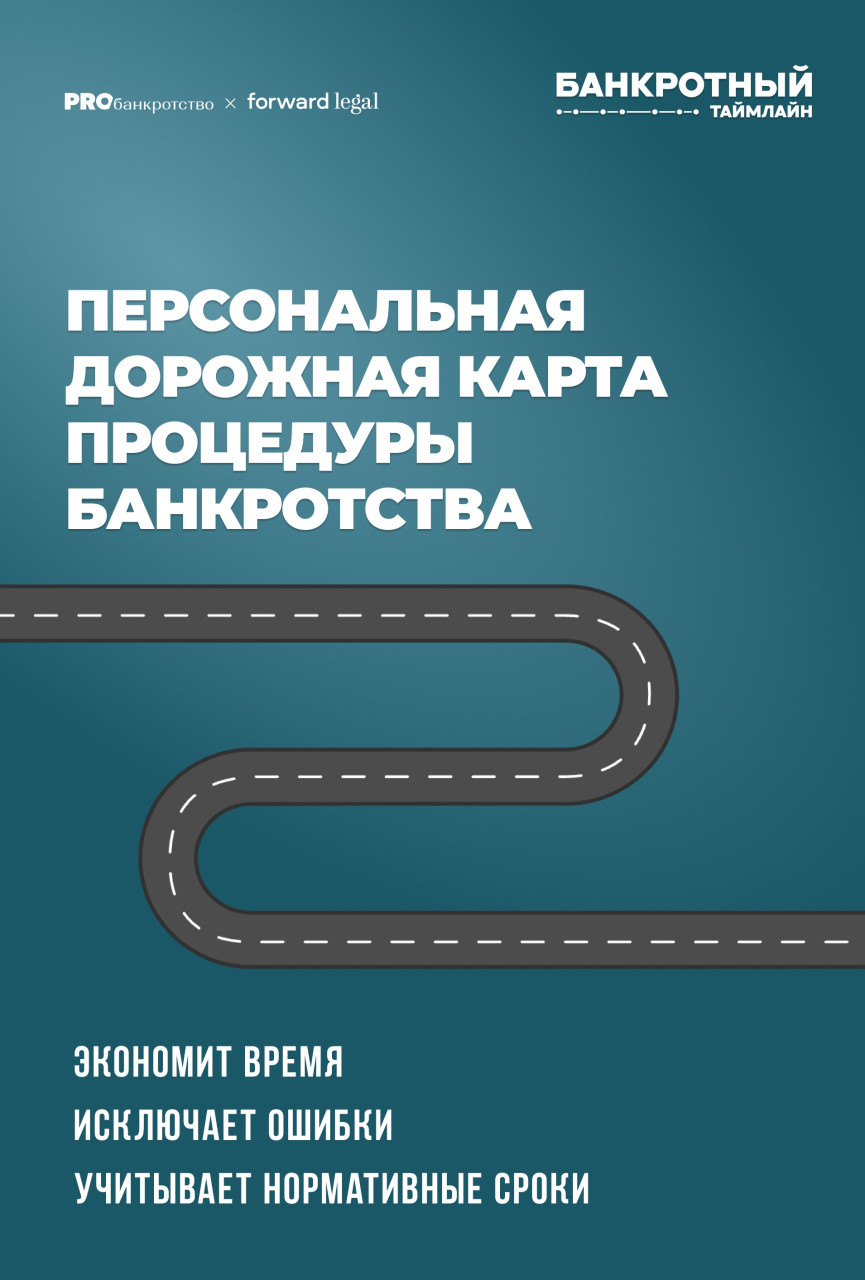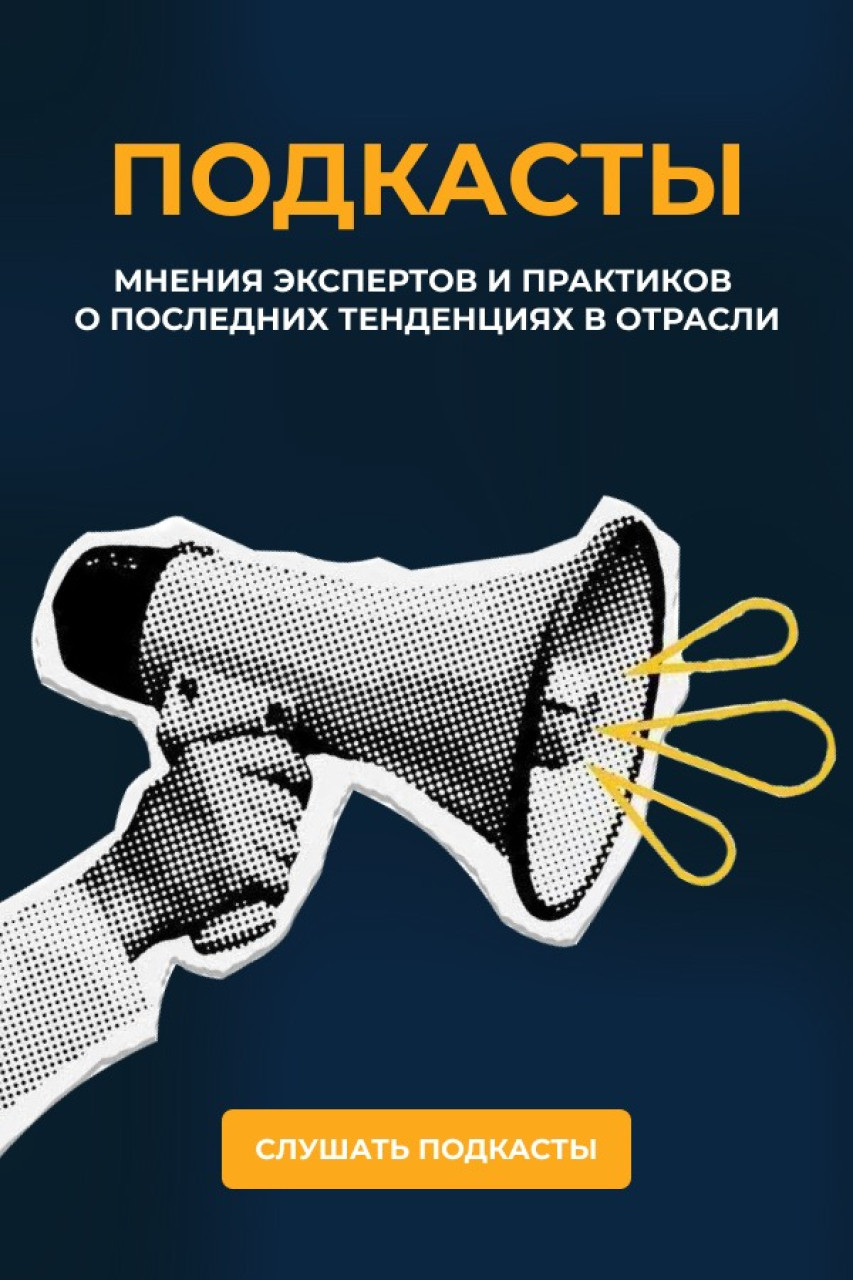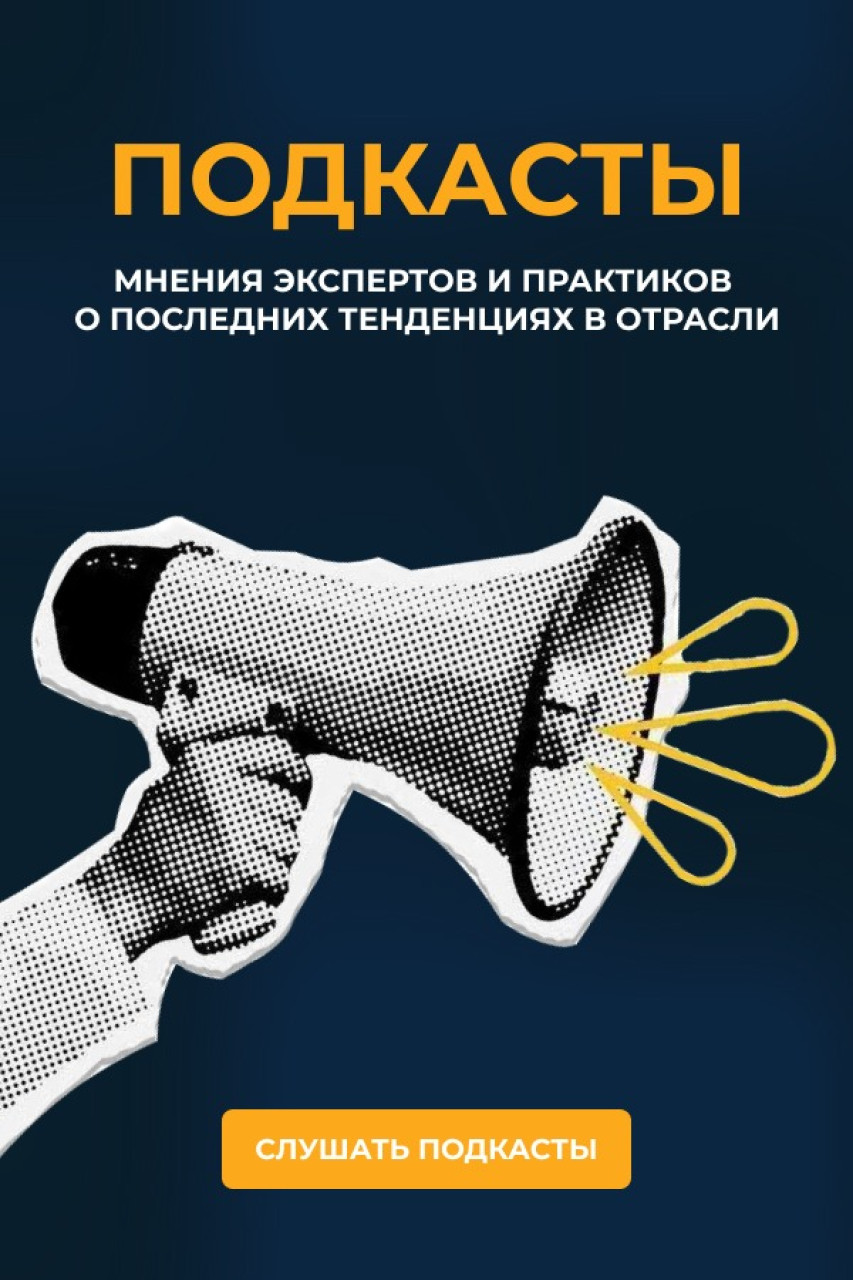Такое положение дел является «заслугой» проведенной в 2017 году реформы, в результате которой ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — закон о банкротстве) была трансформирована в целую главу III.2. «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».
Но, помимо изменения и дополнения норм о субсидиарной ответственности при банкротстве, параллельно законодатель обратил внимание и на «внебанкротную» сторону проблемы. Ее суть заключалась в огромном количестве административных ликвидаций юридических лиц (по решению налогового органа) с наличием непогашенной задолженности.
Напомним: данная процедура закреплена ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и может быть применена в отношении организаций, признанных фактически недействующими (например, ввиду несдачи отчетности и отсутствия операций по счетам в течение 12 месяцев либо наличия в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в течение 6 и более месяцев).
Как указывал КС РФ в Постановлении от 6 декабря 2011 года № 26-П, такое регулирование направлено на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, доверия со стороны третьих лиц, предотвращение недобросовестного использования фактически недействующих юридических лиц и тем самым — на обеспечение стабильности гражданского оборота.
Вместе с тем недобросовестные коммерсанты использовали приведенную процедуру для решения своих проблем.
«Формула успеха» предельно проста:
открываем ООО;
через него заключаем сделки, получаем деньги и иное имущество;
полностью прекращаем работу через это ООО;
в течение года-двух ФНС будет запущен процесс ликвидации ООО.
Конечно, кредиторы могли возражать против исключения ООО из ЕГРЮЛ, а те, кто пропустил срок на заявление возражений, могли инициировать процедуру распределения обнаруженного имущества должника на основании п. 5.2 ст. 64 ГК РФ (п. 39 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»). Но в ситуации, когда никакого имущества уже нет, все эти действия лишены смысла.
Обжалование исключения должника из ЕГРЮЛ в порядке п. 8 ст. 22 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ также представлялось крайне бесперспективным занятием. Практика по данной категории дел складывается не в пользу кредиторов, своевременно не заявивших возражения против исключения должника из ЕГРЮЛ (если, конечно, ФНС не допустила процедурных нарушений) (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25 января 2018 года по делу № А40-35951/17, Определением ВС РФ от 12 апреля 2018 года № 305-КГ18-2598 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения СКЭС).
Решение этой проблемы законодатель усмотрел в дополнении ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — закон об ООО) п. 3.1 о том, что административная ликвидация ООО приравнивается к отказу основного должника от исполнения обязательства, а само это обязательство может быть возложено в качестве субсидиарной ответственности на контролирующих должника лиц (КДЛ), если те действовали недобросовестно и (или) неразумно. Круг потенциальных ответчиков был определен ссылкой на ст. 53.1 ГК РФ — это и официальные лица (руководители, участники общества), и лица, де-факто принимающие управленческие решения (теневые руководители, бенефициары и т. п.).
Соответствующие положения были внесены Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и вступили в силу 28 июня 2017 года.
Целесообразность введения данной нормы
Принятие нормы о субсидиарной ответственности в рамках лишь одного профильного закона порождает ряд вопросов — как о сфере ее применения, так и о принципиальной целесообразности такого решения.
Во-первых, означает ли внедрение норм о субсидиарной ответственности в закон об ООО, что подобный механизм неприменим в случае исключения из ЕГРЮЛ юридического лица с иной организационно-правовой формой (например, АО)? Конечно, положения закона об ООО не распространяются на юридические лица иной организационно-правовой формы, но это совсем не означает индульгенцию для КДЛ, если из ЕГРЮЛ, к примеру, будет исключен подконтрольный ему должник-АО.
Это прямо следует из п. 3 ст. 64.2 ГК РФ, который допускает привлечение к ответственности лиц, контролировавших организацию, в случае ее исключения из ЕГРЮЛ как недействующей. Данная норма по умолчанию распространяется на юридические лица независимо от их организационно-правовой формы.
Однако в таком случае возникает вопрос целесообразности самого существования п. 3.1 ст. 3 закона об ООО, ведь он просто дублирует общие положения ГК в отношении ООО, на которые эти положения и так распространяются.
Отсутствие необходимости введения данной нормы косвенно отмечено и в судебной практике. К примеру, в Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17 мая 2023 года по делу № А28-2736/2022 указано следующее: «…до введения указанной нормы к контролирующим должника лицам применялись общие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации об убытках, устанавливающие идентичный стандарт доказывания, а именно необходимость доказывания противоправности поведения ответчика как причинителя вреда, наличия и размера понесенных убытков, причинно-следственной связи между незаконными действиями ответчика и возникшими убытками, вины причинителя вреда. Само по себе отсутствие нормы пункта 3.1 статьи 3 Закона № 14-ФЗ не исключало возложение на контролирующих должника лиц ответственности по аналогичному основанию».
Поэтому представляется, что необходимость введения данной нормы заключалась скорее в акцентировании внимания на проблеме.
АС или СОЮ: компетенция по данной категории дел
Первое, на что обращает внимание рассматриваемая норма, — это отсутствие единообразия в вопросе компетенции судов при рассмотрении таких дел. Ведь зачастую их сторонами (или одной из сторон) являются граждане (например, ответчик — руководитель исключенного из ЕГРЮЛ общества). Поэтому у кредиторов перед подачей иска нередко возникала (и продолжает возникать) дилемма — арбитражный суд или суд общей юрисдикции?
Долгое время ни в законе, ни на уровне разъяснений КС или ВС на этот счет не было конкретики. Относительная точка была поставлена лишь в Постановлении Пленума ВС РФ от 23 декабря 2021 года № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», в п. 4 которого рассмотрение споров по требованиям, указанным в п. 3.1 ст. 3 закона об ООО, прямо отнесено к исключительной компетенции арбитражных судов.
Однако и после приведенных разъяснений суды общей юрисдикции зачастую продолжают рассматривать эти дела по существу (см. определения ВС РФ от 7 февраля 2023 года № 18-КГ22-106-К4 и от 21 марта 2023 года № 5-КГ22-132-К2, Апелляционное определение Свердловского областного суда от 9 февраля 2024 года по делу № 33-2093/2024, Ленинградского областного суда от 22 ноября 2023 года по делу № 33-7088/2023 и др.).
Является ли исключение должника из ЕГРЮЛ основанием для субсидиарной ответственности?
Несмотря на то, что рассматриваемая норма вступила в силу в середине 2017 года, первые разъяснения ВС о том, как ее применять, появились только в 2020 году — определения № 306-ЭС19-18285 от 30 января 2020 года и № 307-ЭС20-180 от 25 августа 2020 года.
В обоих кейсах был затронут вопрос о том, является ли поведение КДЛ, допустившего административную ликвидацию общества, самостоятельным основанием для субсидиарной ответственности. Проанализировав содержание рассматриваемой нормы, ВС счел, что эти обстоятельства сами по себе субсидиарную ответственность не влекут.
Такой вывод вполне вписывается в логику исключительного характера субсидиарной ответственности. Сама же по себе административная ликвидация является лишь препятствием для получения исполнения от должника, которая к тому же может быть предотвращена самим кредитором путем подачи мотивированного возражения в ФНС (т. е. сохранение должником правоспособности находится не только в зоне ответственности его КДЛ).
Позже аналогичная позиция подтверждалась как самим ВС в Определении № 307-ЭС22-18671 от 30 января 2023 года, так и КС в постановлениях № 20-П от 21 мая 2021 года и № 6-П от 7 февраля 2023 года, который указал на деликтную природу субсидиарной ответственности со всеми вытекающими сложностями доказывания [возникновение вреда вследствие недобросовестного (неразумного) и виновного поведения ответчика].
По той же причине п. 3.1 ст. 3 закона об ООО в толковании, придаваемом ему правоприменительной практикой, не допускает и вменение субсидиарной ответственности за сам факт того, что расчеты с кредиторами общества не были осуществлены до прекращения его деятельности (Определение ВС РФ № 304-ЭС21-18637 от 6 марта 2023 года).
Следовательно, истцу в таком споре недостаточно просто ссылаться на то, что должник был исключен из ЕГРЮЛ с непогашенной задолженностью.
В чем выражается недобросовестность/неразумность поведения КДЛ?
Если самого факта исключения должника из ЕГРЮЛ недостаточно для признания поведения КДЛ в качестве недобросовестного или неразумного, то что же можно считать таковым?
Условие наступления «внебанкротной» субсидиарной ответственности здесь ничем не отличается от более привычной — банкротной — неспособность удовлетворить требования кредитора искусственно спровоцирована в результате выполнения указаний (реализации воли) КДЛ.
Таким образом, истцу необходимо доказать, что неразумные и/или недобросовестные действия (бездействие) КДЛ привели к тому, что общество стало неспособным исполнять обязательства, то есть фактически за доведение до банкротства (Определение ВС РФ от 23 ноября 2023 года № 307-ЭС23-22725 по делу № А56-129531/2022, постановления Арбитражного суда Центрального округа от 18 декабря 2023 года по делу № А08-13789/2022 и от 12 июля 2023 года по делу № А14-15363/2022).
Как и в банкротстве, наиболее частыми проявлениями недобросовестного или неразумного поведения ответчиков являются:
вывод активов вместо расчетов с кредитором (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12 февраля 2024 года по делу № А68-11525/2022);
перевод бизнеса на другую компанию (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 февраля 2024 года по делу № А56-128276/2022);
формирование на стороне должника «центра убытков» (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23 января 2024 года по делу № А76-11413/2022) и т. п.
Также при оценке добросовестности и разумности КДЛ кредитору могут помочь разъяснения пп. 2 и 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», где закреплены признаки поведения руководителя, не отвечающего данным стандартам.
«Одни не могут, другие не хотят»: решение проблемы доказывания
Однако установление тождественности таких споров с требованиями о взыскании убытков было произведено без учета корпоративной специфики. Ведь кредитор объективно не имеет доступа к сведениям о хозяйственной деятельности должника, так как не вовлечен в корпоративные отношения. Кроме того, в отличие от кредитора в рамках процедуры банкротства в этом вопросе он не получает и содействия арбитражного управляющего.
В свою очередь, ответчик, осознавая, что именно на истце лежит бремя доказывания «всего и вся», не заинтересован в раскрытии фактов о деятельности подконтрольного ему общества. Особенно если ему действительно есть что скрывать. Это влечет заведомое неравенство процессуальных возможностей сторон, которое явилось причиной значительного количества «отказных» судебных актов.
Но в 2021 году за решение этой проблемы взялся КС (Постановление № 20-П от 21 мая 2021 года), который перераспределил бремя доказывания в пользу истца-гражданина (непредпринимателя), если на момент исключения должника из ЕГРЮЛ с него была взыскана задолженность. То есть при наличии данных обстоятельств предполагается, что именно бездействие КДЛ привело к невозможности исполнить обязательство перед гражданином, пока само КДЛ не докажет обратное (перераспределение бремени доказывания).
Такой подход был обусловлен не только затруднительностью сбора доказательств для кредитора, но и его специальным статусом потребителя.
Однако не прошло и двух лет, как КС решил расширить сферу применения данного подхода (Постановление № 6-П от 7 февраля 2023 года). Только в этот раз с жалобой обратился предприниматель, исчерпавший принудительные механизмы взыскания, включая банкротство (производство по делу было прекращено ввиду отсутствия средств для финансирования процедуры).
КС пришел к выводу о том, что суд вправе перераспределить бремя доказывания и в случае, если истцом является коммерсант, но при совокупности следующих условий:
кредитор инициировал банкротство, но производство по делу было прекращено из-за отсутствия средств финансирования до введения первой процедуры;
на момент исключения должника из ЕГРЮЛ задолженность была взыскана судом;
установление недобросовестности КДЛ в процессе (пассивное поведение, явная неполнота сведений о деятельности подконтрольного общества);
добросовестность самого кредитора (действительно ли он не имеет доступа к информации о деятельности должника и использовал ли иные способы принудительного взыскания перед подачей иска?).
Мотивы такого подхода очевидны: добросовестный кредитор, своевременно предпринявший разумные меры по принудительному исполнению судебного акта (предъявление исполнительного документа на исполнение, инициирование процедуры банкротства и т. п.), все равно может не иметь действенных рычагов по сбору доказательств, находящихся в сфере ответственности КДЛ.
Однако здесь КС привел и конкретные ситуации, когда кредитор не может ссылаться на сложности доказывания. Например, если он был аффилирован с должником, обладает государственно-властными полномочиями или особым положением на рынке, предоставляющими такой доступ на законных основаниях. В конце концов, такой доступ мог быть у кредитора в силу сложившихся правил взаимодействия с должником (п. 5.2 Постановления 6-П от 7 февраля 2023 года).
Данный подход существенно отразился на практике ВС: если кредитор указывает, что КДЛ является недобросовестным, представил судебные акты о взыскании долга с должника и доказательства его исключения из ЕГРЮЛ, суд оценивает возможность кредитора по получению доступа к сведениям и документам о хозяйственной деятельности такого должника. В отсутствие у добросовестного кредитора такого доступа и при отказе или уклонении КДЛ от дачи пояснений о своих действиях (бездействии) при управлении должником, причинах неисполнения обязательств перед кредитором и прекращения хозяйственной деятельности или при их явной неполноте обязанность по доказыванию отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности возлагается на КДЛ (определения ВС РФ № 305-ЭС22-16424 от 10 апреля 2023 года, № 305-ЭС23-11842 от 4 октября 2023 года, № 305-ЭС23-29091 от 26 апреля 2024 года).
Как показывает практика нижестоящих инстанций в первый год после формирования данной позиции, суды не всегда учитывали позицию по распределению бремени доказывания. Суды либо продолжали возлагать обязанность по доказыванию на истцов при полной безучастности КДЛ (Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 августа 2023 года по делу № А14-3618/2023), либо преждевременно перекладывали ее на ответчиков (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 января 2024 года по делу № А40-164982/2022).
Однако сейчас можно констатировать, что судебная практика формируется с учетом актуальных разъяснений высших судебных инстанций, в результате чего «пассивная позиция» КДЛ теперь не является для них спасительной тактикой, а скорее наоборот — работает против них (постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 9 ноября 2023 года по делу № А56-101921/2022, Арбитражного суда Московского округа от 28 августа 2023 года по делу № А40-155687/2022, Второго арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2024 года по делу № А17-2950/2023).