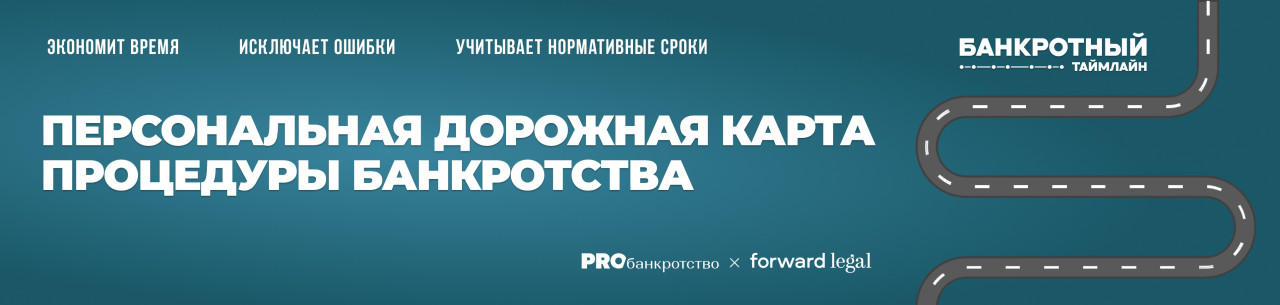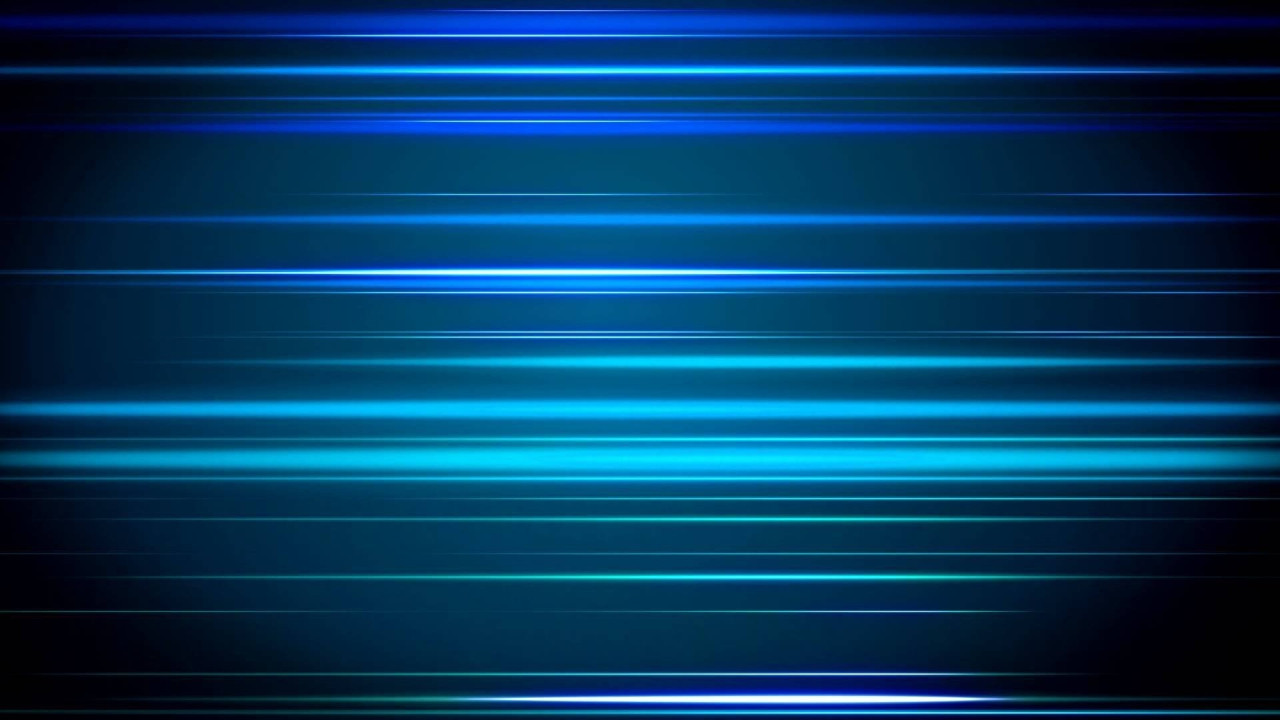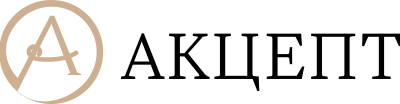У ООО «ТД Премьер» был долг перед ООО «БелЭмса» по договору поставки. В 2020 г. ООО «ТД Премьер» (первоначальный должник) перевело этот долг на ООО «Компания Стар» (новый должник). ООО «Компания Стар» погасило долг перед ООО «БелЭмса», но ООО «ТД Премьер» не перечислило ООО «Компания Стар» сумму переведенного долга. ООО «Компания Стар» взыскало долг с ООО «ТД Премьер» в суде. Позже производство по делу о банкротстве ООО «ТД Премьер» было прекращено из-за недостаточности средств. Конкурсный управляющий ООО «Компания Стар» обратился в суд с заявлением о привлечении Саддама Эсмурзаева и Людмилы Полюхович к субсидиарной ответственности по долгам ООО «ТД Премьер». Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. ООО «Компания Стар» обратилось с кассационной жалобой в окружной суд, который отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. Кассация указала, что суды не учли ряд важных обстоятельств, не обеспечили равенство процессуальных возможностей сторон по доказыванию и не дали оценку доводам истца о контроле ответчиков над должником (дело № А40-37466/2024).
Фабула
У ООО «ТД Премьер» был долг перед ООО «БелЭмса» по договору поставки в размере 1,31 млн рублей. В апреле 2020 г. этот долг был переведен с ООО «ТД Премьер» (первоначальный должник) на ООО «Компания Стар» (новый должник) по договору перевода долга. ООО «Компания Стар» погасило долг перед ООО «БелЭмса», но ООО «ТД Премьер» не перечислило ООО «Компания Стар» сумму переведенного долга.
Суд в марте 2023 г. взыскал с ООО «ТД Премьер» в пользу ООО «Компания Стар» 1,31 млн рублей и проценты. В декабре 2023 г. производство по делу о банкротстве ООО «ТД Премьер» было прекращено из-за недостаточности средств.
Конкурсный управляющий ООО «Компания Стар» обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Саддаму Эсмурзаеву и Людмиле Полюхович о привлечении их к субсидиарной ответственности по долгам ООО «ТД Премьер».
Людмила Полюхович была участником и руководителем ООО «ТД Премьер» до июня 2019 г. С июня 2019 г. единственным участником и руководителем стал Саддам Эсмурзаев.
По мнению АУ, Людмила Полюхович фактически продолжала контролировать ООО «ТД Премьер», так как подписывала договор перевода долга в апреле 2020 г. уже после выхода из состава участников и руководства. Арбитражный управляющий посчитал Саддама Эсмурзаева номинальным руководителем, предположив, что перевод долга осуществлялся для ухода от ответственности в преддверии банкротства, при этом у ООО «ТД Премьер» были активы на сумму более 17 млн рублей, которых хватило бы для погашения долга.
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске. ООО «Компания Стар» обратилось с кассационной жалобой в окружной суд, рассказал ТГ-канал «Субсидиарная ответственность».
Что решили нижестоящие суды
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления, полагая недоказанной вину ответчиков в невозможности погашения долга перед истцом. Суд счел, что само по себе наличие непогашенного обязательства не свидетельствует о недобросовестности контролирующих лиц.
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменения.
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Московского округа отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Ответственность контролирующих лиц по обязательствам общества возможна, если невозможность расчетов с кредиторами вызвана их недобросовестными и неразумными действиями. Доказывание вины контролирующих лиц упрощено для кредиторов через введение опровержимых презумпций.
Кредитор (истец) обосновал наличие и размер требований к должнику, а также привел доводы в пользу контроля ответчиков над должником и недобросовестности их действий, приведших к невозможности погашения долга. В частности, истец указал, что Людмила Полюхович продолжала давать обязательные указания после передачи формального контроля Саддаму Эсмурзаеву, на что указывает ее подписание договора о переводе долга. Суд счел, что тем самым кредитор представил доказательства, позволяющие с разумной степенью достоверности предполагать недобросовестность ответчиков.
В такой ситуации бремя опровержения доводов истца переходит на ответчиков как контролирующих лиц. Они должны раскрыть документы и дать объяснения о реальном ведении дел в обществе. Однако ответчики не оспорили свой статус контролирующих лиц и не раскрыли соответствующие доказательства.
Окружной суд также обратил внимание на объективно неравные возможности сторон по сбору доказательств в подобных спорах. У кредитора обычно нет доступа к данным о реальной деятельности общества-должника. Поэтому суды должны содействовать выравниванию процессуальных возможностей через механизмы истребования доказательств.
В данном деле суд первой инстанции отклонил ходатайство кредитора об истребовании дополнительных доказательств, сочтя, что истец должен представить их сам. Окружной суд счел такой подход неверным. Он указал на необходимость при новом рассмотрении решить вопрос об истребовании выписок по счетам ООО «ТД Премьер» и иных данных о его активах.
Кроме того, суды не дали оценку доводам кредитора о недостоверности сведений о месте нахождения ООО «ТД Премьер» и о возможной аффилированности его с ООО «Компания Стар». Эти обстоятельства также подлежат выяснению при новом рассмотрении.
Окружной суд напомнил о презумпции виновности контролирующих лиц при непредставлении ими документов, отражающих реальную деятельность общества. Эта презумпция подлежит применению и в исках вне рамок банкротства, иначе контролирующие лица получали бы преимущество при уходе от банкротства.
Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, которыми было отказано в привлечении контролирующих лиц ООО «ТД Премьер» к субсидиарной ответственности. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Почему это важно
Кира Корума, партнер АК «Аснис и партнеры», полагает, что суд кассационной инстанции обратил внимание на вопросы доказывания, распределения бремени доказывания, добросовестности участников юридического лица, учел правовые позиции, отраженные в определении ВС РФ № 305-ЭС23-29091 от 24 апреля 2024 г. Так, при рассмотрении дела суд первой инстанции отклонил ходатайство истца об истребовании дополнительных доказательств по делу.
Суд кассационной инстанции отметил неравенство кредитора и КДЛ в возможностях доказывания, что безусловно справедливо. Кредиторы, если это не банки, в большинстве случаев не имеют доступа к информации о финансово-хозяйственной деятельности должника и вынуждены собирать сведения по крупицам, используя косвенные доказательства. Содействие суда истцу в такой ситуации будет выравнивать объективно предопределенное неравенство в возможностях доказывания.
Также, по ее мнению, должно учитываться процессуальное поведение ответчика.
«Если ответчик не представляет опровергающих презумпции и предположения доказательства, свои документы и объяснения относительно того, как на самом деле осуществлялась хозяйственная деятельность, чем вызвана несостоятельность должника, чем вызвано неисполнение должником обязательств перед кредитором – такие действия/бездействие априори являются недобросовестными, позволяют сделать вывод о сокрытии ответчиком «следов содеянного». Эти правовые позиции применяются и в случае внебанкротного привлечения к субсидиарной ответственности, обеспечивая равенство прав кредиторов и в случае прохождения должником процедур банкротства, и в случае, если бизнес брошен.
В данном деле истец, имеющий подтвержденное судебным актом денежное право требования к должнику, представил суду балансы, доказывающие наличие у должника имущества, за счет которого он мог исполнить обязательства, но не исполнил. При установленных законодателем презумпциях и установлении судом роли ответчика как КДЛ это основание для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности, поскольку поведение КДЛ является недобросовестным.
По словам Елизаветы Порамоновой, соуправляющего партнера INSIGHT advocates, кассационный суд обратил внимание, что решение нижестоящих инстанций неверно распределило бремя доказывания, поскольку должник, обладая активами, обязан доказать объективные причины, по которым его имущество не может быть использовано для погашения долга.
Это обстоятельство повлияло на распределение бремени доказывания: ответственность за обоснование невозможности исполнения обязательств должна лечь на должника, а не на кредитора. Суды не учли, что кредитор не имел доступа к финансовым документам должника, а контролирующие лица не представили пояснений. Не была дана надлежащая оценка переводу долга и полномочиям подписавшего договор лица, хотя это могло свидетельствовать о намеренном уходе от ответственности. Суд отметил, что должник обладал активами, но не исполнил обязательства, что ставит под сомнение его добросовестность. Также не исследован вопрос аффилированности сторон и возможного фиктивного банкротства.
«Судебный акт в основном направлен на необходимость верного подхода к рассмотрению дела и учету всех обстоятельств, которые могли повлиять на имущественное положение должника», – заключила она.
Ксения Малмыгина, руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» Nordic Star, указала, что в рассматриваемом постановлении Московская кассация поддержала сложившийся в практике подход к распределению бремени доказывания в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности.
«Отметив наличие значительной диспропорции в доступе сторон к доказательствам, которая отчасти восполняется презумпциями п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, АС Московского округа предложил и процессуальный алгоритм, на который стоит ориентироваться участникам споров и судам.
Поскольку кредитор не имеет доступа к доказательствам, а участники обладают не только доступом, но и возможностью ограничить его или сокрыть сами доказательства, кредитору достаточно доказать наличие у него убытков и то, что вероятной причиной невозможности погашения требования стало поведения контролирующих лиц, с разумной степенью достоверности», – пояснила она.
Для этого достаточно будет убедительной совокупности косвенных доказательств, после чего бремя перейдет на ответчика. При этом учитывается и поведение сторон в процессе: если суд установит недобросовестность поведения бенефициаров, он вправе исходить из предположения о том, что виновные действия этих лиц привели к невозможности погасить требования кредиторов. В рассмотренном деле кассация отметила диспропорцию доказательственных возможностей и указала на необходимость суда содействовать в проверке доводов сторон путем истребования доказательств, особенно в ситуации процессуальной пассивности ответчиков. Этот судебный акт способен послужить удобным ориентиром при разрешении вопросов о распределении бремени доказывания в спорах о субсидиарной ответственности, в том числе при их рассмотрении вне рамок банкротства.
Анастасия Рязапова, юрист практики банкротства и разрешения споров юридической фирмы MAYS Partners, отметила, что, отменяя акты нижестоящих судов, суд кассационной инстанции обратил внимание на несколько важных моментов:
– нижестоящие суды подошли к разрешению спора формально и отказали в привлечении ответчиков к субсидиарной ответственности, так и не проверив, имелся ли факт сокрытия активов со стороны КДЛ;
– суды в нарушение требований ч. 2 ст. 9 АПК РФ возложили на заявителя негативные последствия несовершения ответчиками процессуальных действий по представлению доказательств.
Не так давно Верховный Суд вновь напомнил о принципах доказывания в делах «брошенного бизнеса». Нижестоящие суды допустили те же самые ошибки, которые исправляла высшая инстанция, – пришли к выводу об отсутствии вины в действиях КДЛ только лишь на основании того, что наличие у компании непогашенного долга не является прямым доказательством недобросовестности контролирующих лиц (определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 27 июня 2024 г. № 305-ЭС24-809 по делу № А41-76337/2021; определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 10 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-16424 по делу № А40-203072/2021). К сожалению, рассматривая подобные споры, суды до сих пор закрывают глаза на высказанную ВС РФ позицию и все чаще и чаще требуют от заявителей прямых доказательств, подтверждающих, что КДЛ совершили конкретные действия (одобрили сделку, подписали документ), не исследуя вопрос о том, куда все-таки «ушло» имущество компании и в чем была истинная причина банкротства. В ситуации, когда заявитель не обладает прямыми доказательствами, суды по-прежнему перекладывают на него основное бремя доказывания, не применяя облегчающую доказывания презумпцию против ответчика, который такой информацией обладает.
«Кассация, направляя дело на новое рассмотрение, изложила справедливый подход – при наличии у компании кредиторской задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, пассивная позиция КДЛ влечет перераспределение на него бремени доказывания оснований для привлечения к субсидиарной ответственности.
При новом рассмотрении суд первой инстанции должен как минимум истребовать банковские выписки, чтобы заявитель смог отследить цепочку вывода активов и понять причины банкротства компании. Есть надежда, что распространение такого подхода сподвигнет учредителей подходить к ведению бизнеса более ответственно, а суды – правильно распределять бремя доказывания в подобных спорах», – резюмировала она.
Дмитрий Громов, юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры», считает, что дело, рассмотренное Арбитражным судом Московского округа, встает в один ряд с другими делами, в которых привлекали к субсидиарной ответственности бенефициаров «брошенных» компаний.
«Заявитель полагал, что на момент передачи долга ООО “ТД Премьер”, хотя и имело фактическую возможность исполнить обязательство, не планировало этого делать. Однако суды нижестоящих инстанций не исследовали не только экономическое состояние должника на момент перевода долга, но и роль руководителя ООО “Компания Стар” при заключении этого соглашения, его осведомленность о целях и финансовом состоянии ООО “ТД Премьер”».
На мой взгляд, суд кассационной инстанции принял верное решение, потому что, исходя из актов нижестоящих судов, сложно установить финансовое состояние ООО «ТД «Премьер» на момент заключения договора о переводе долга, причину его банкротства, а также реальные отношения между ООО «ТД Премьер» и ООО «Компания “Стар”». По сути, суды из-за недостатка доказательств и неучастия ответчиков в споре не смогли установить роль Л.Ф. Полюхович и С.А. Эсмурзаева в банкротстве ООО «ТД Премьер», на основании этого и отказали в привлечении к субсидиарной ответственности.
«Как верно заметила кассация, это фактически поставило уклонившегося от участия в деле ответчика в привилегированное положение», – резюмировал он.