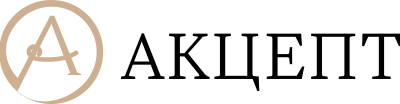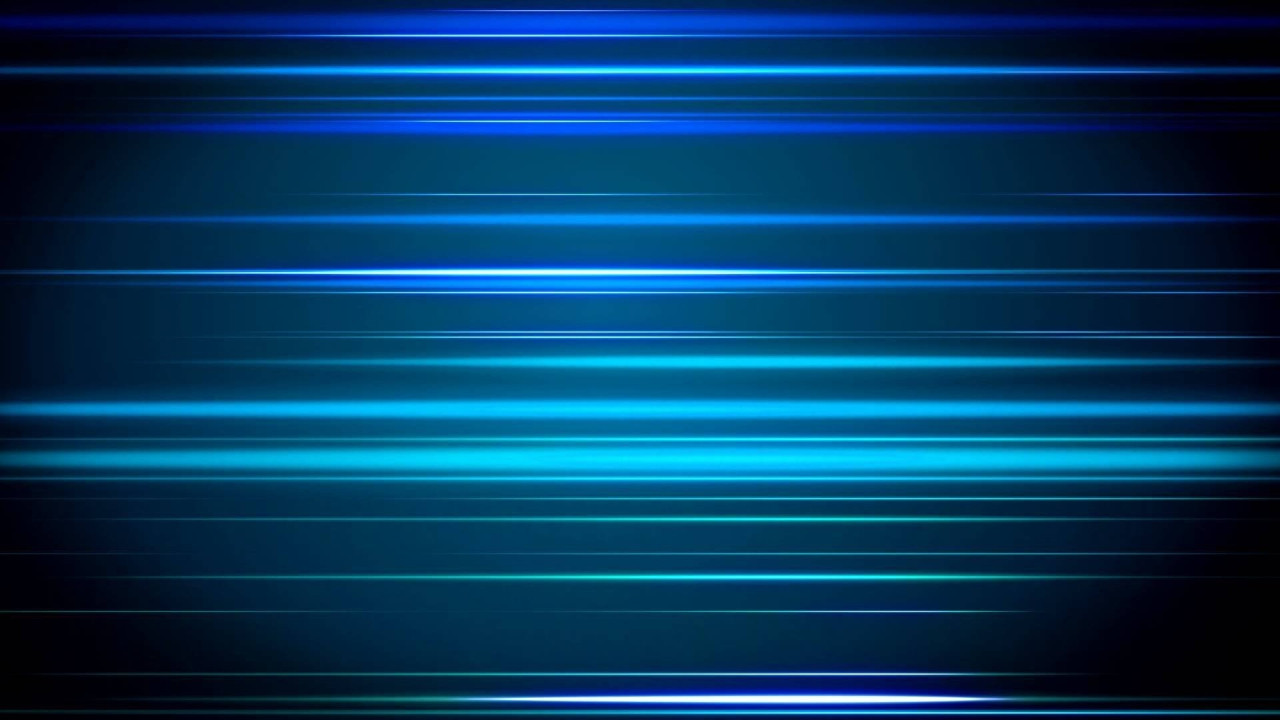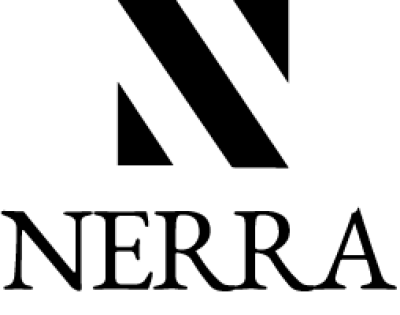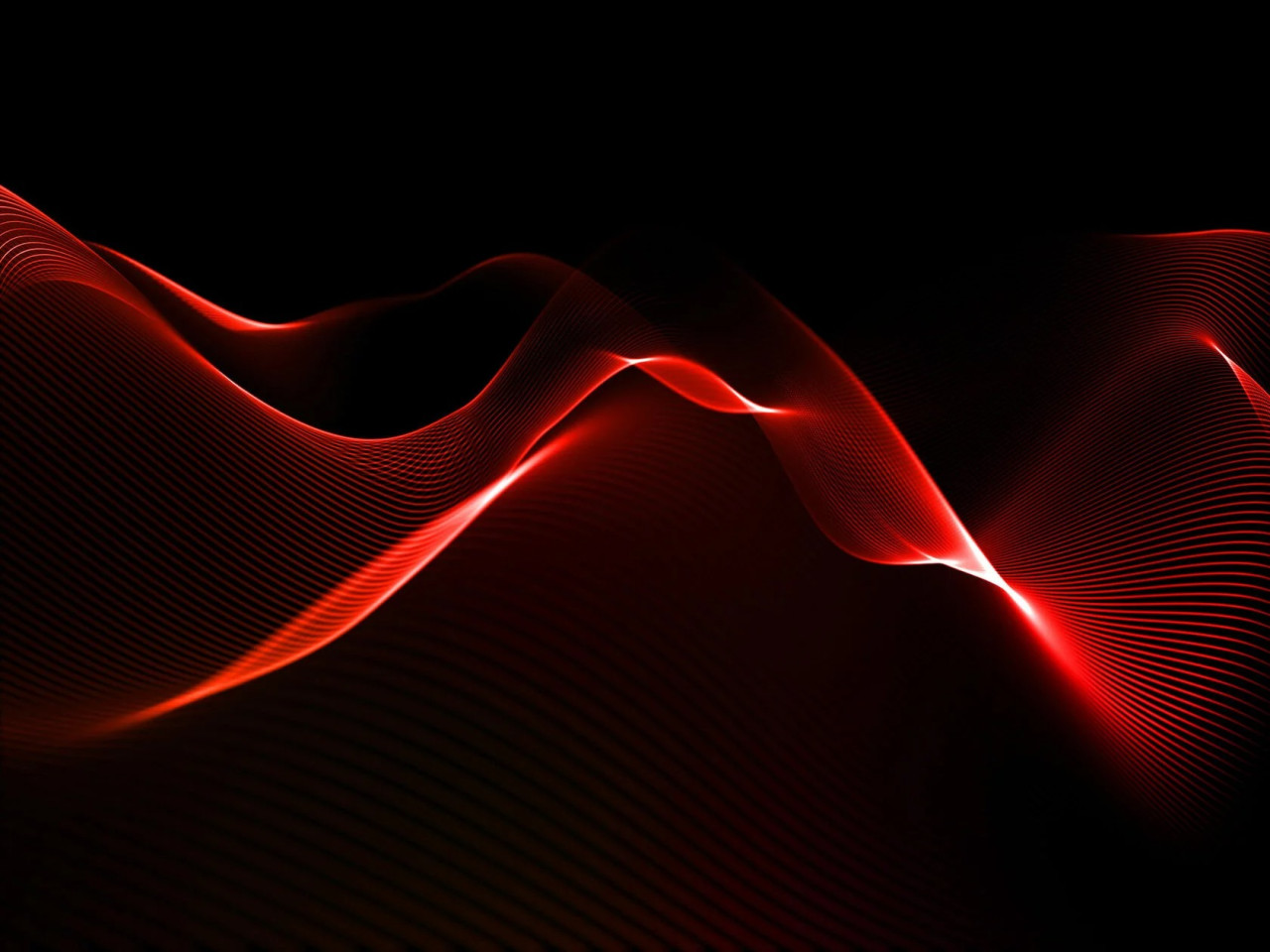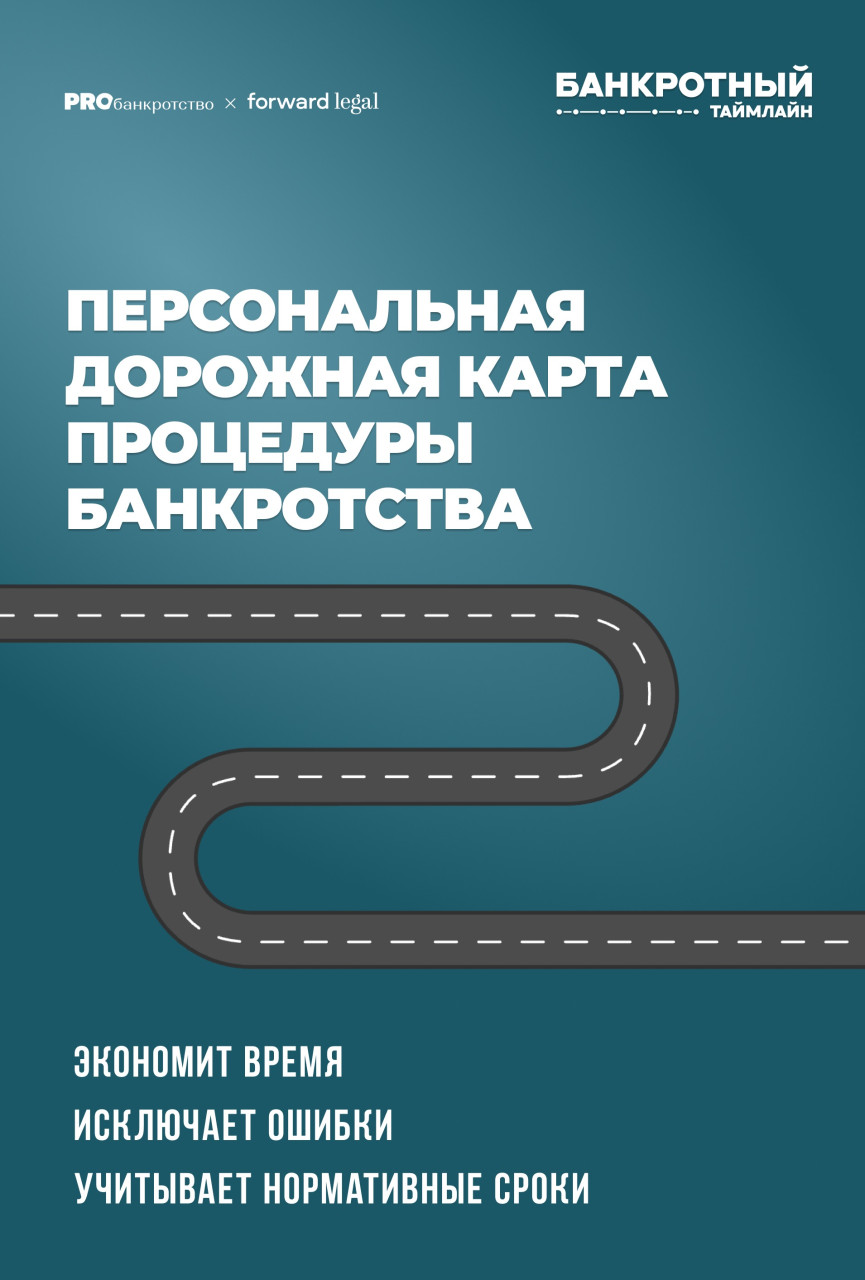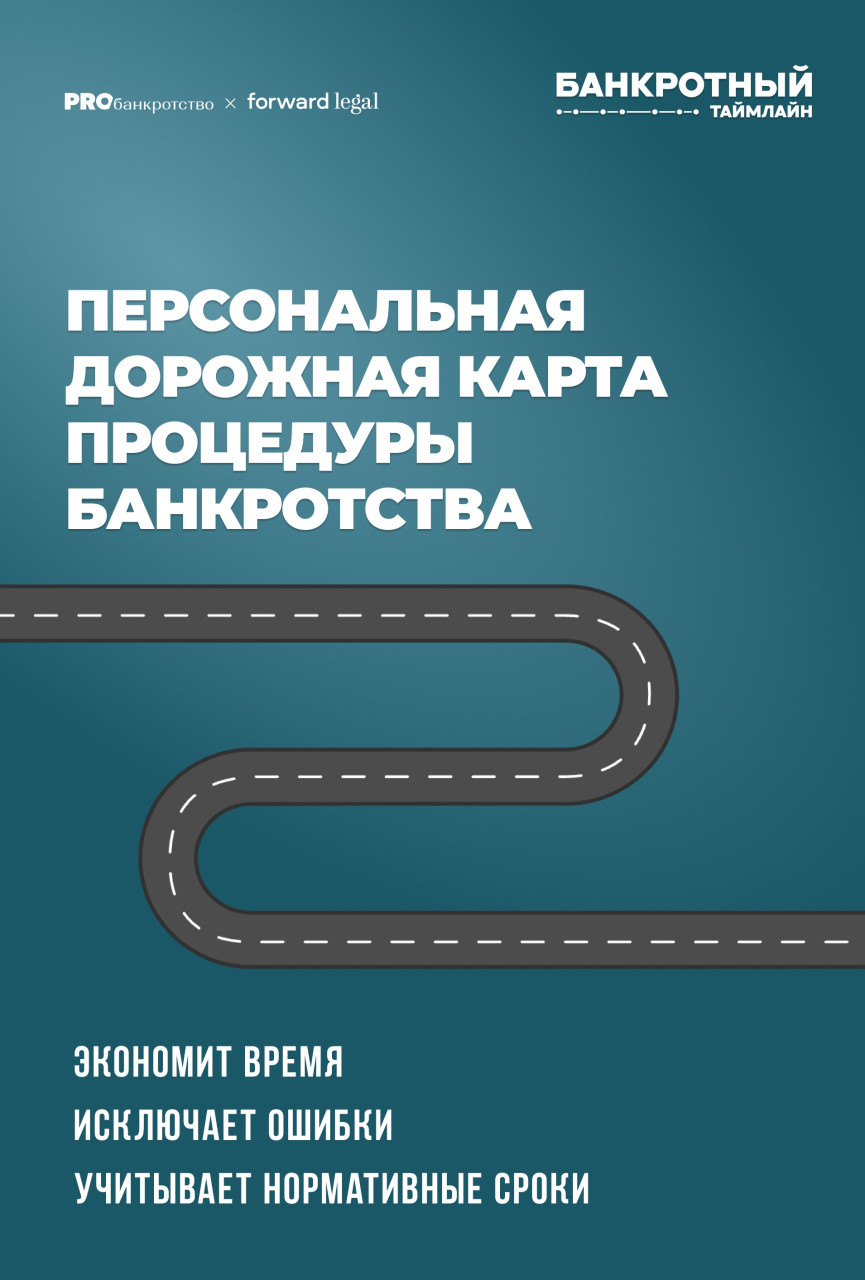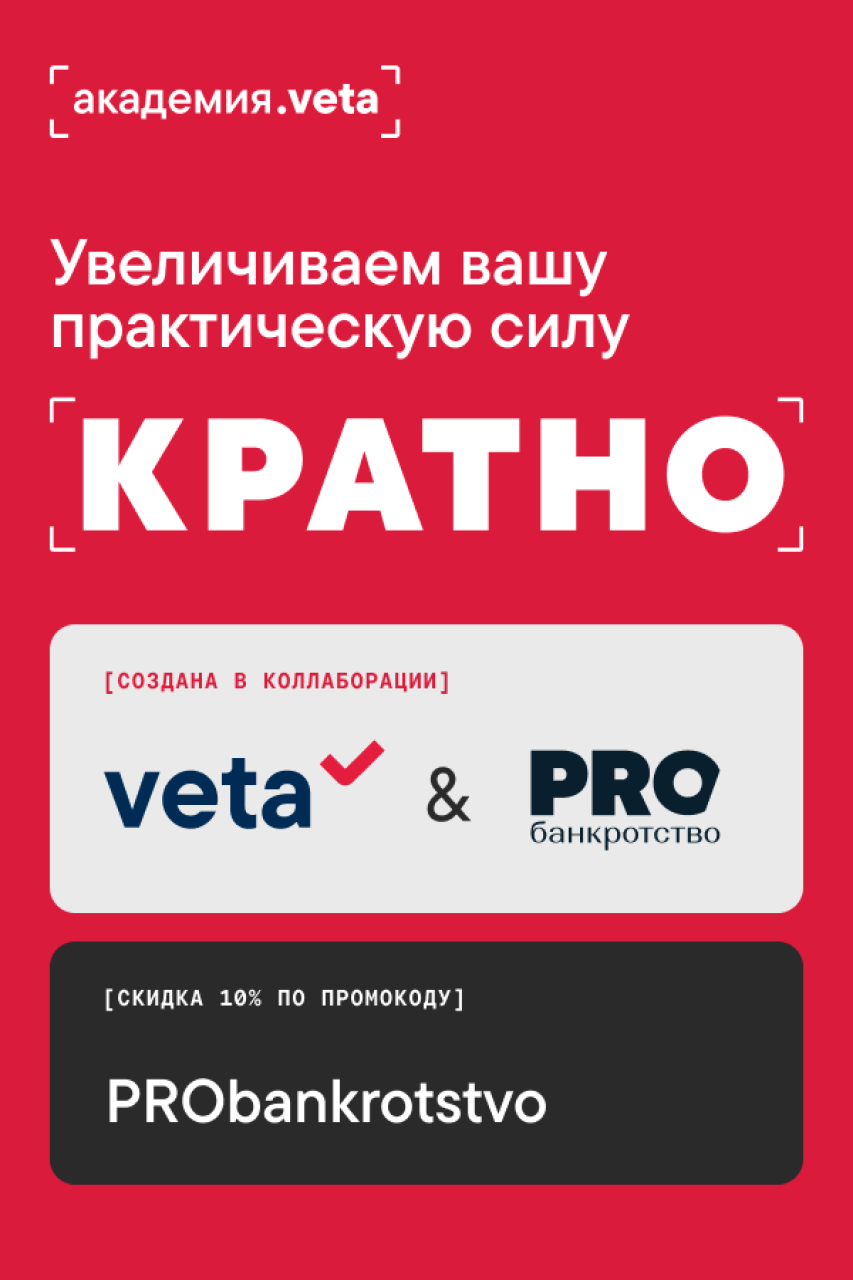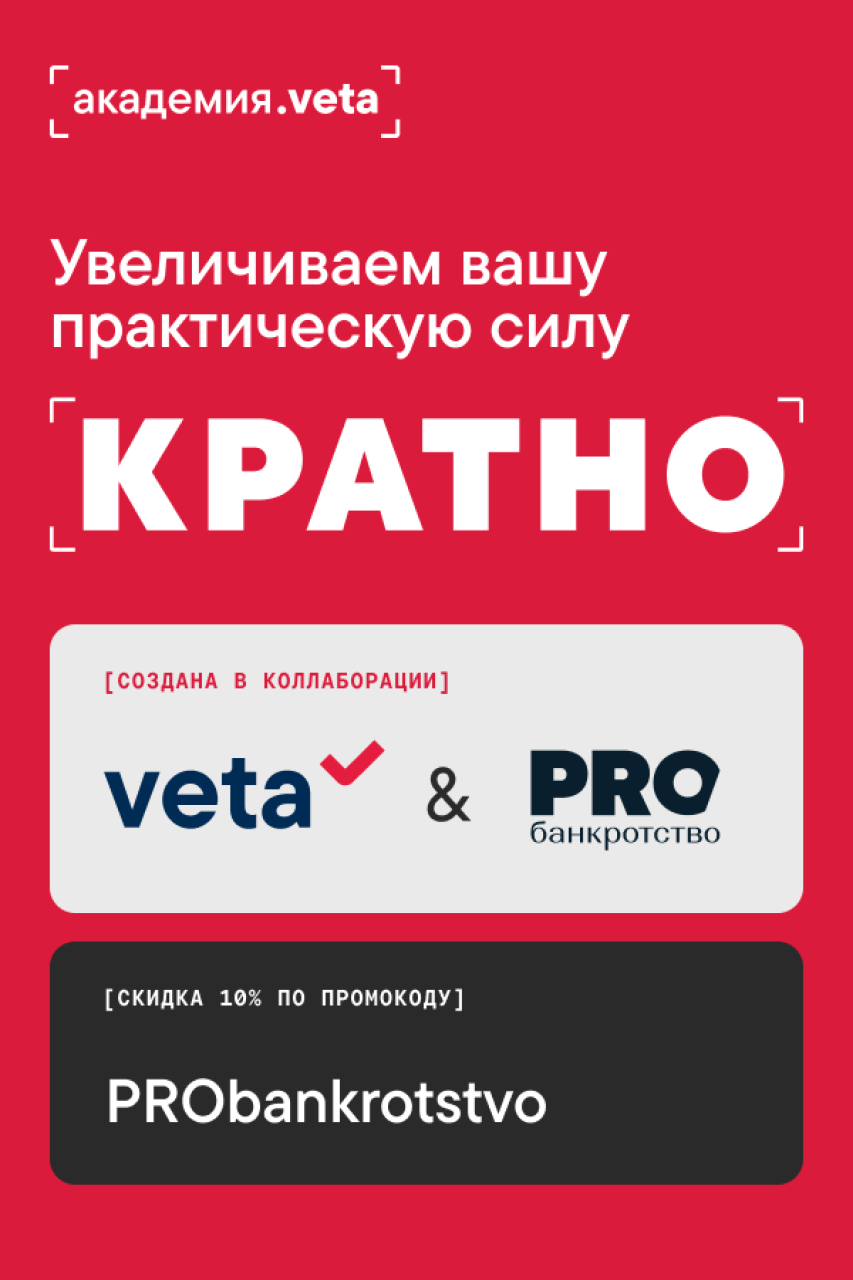ПАО «Совкомбанк» предоставило банковскую гарантию за ООО «Эком-ДВ» в пользу ОАО «РЖД» на сумму 2,78 млн рублей. После того как ООО «Эком-ДВ» не исполнило свои обязательства перед РЖД, банк выплатил по гарантии около 2,78 млн рублей и получил право регрессного требования к обществу. Банк обратился в суд и выиграл три дела о взыскании задолженности с ООО «Эком-ДВ» на общую сумму более 6,6 млн рублей. Однако общество было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее и банк не смог взыскать долг. «Совкомбанк» обратился в суд с иском о привлечении руководителя общества Татьяны Контаевой к субсидиарной ответственности. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, указав на недоказанность недобросовестности действий руководителя. Кассационный суд отменил решения нижестоящих судов, указав на неправильное распределение бремени доказывания и необходимость учета пассивной процессуальной позиции ответчика, который не явился в суд и не представил никаких объяснений о деятельности общества (дело № А73-15541/2024).
Фабула
ПАО «Совкомбанк» заключило с ООО «Эком-ДВ» договор о предоставлении банковской гарантии на сумму 2,78 млн рублей в пользу ОАО «РЖД» для обеспечения исполнения контракта на оказание услуг по комплексной уборке помещений. Татьяна Контаева являлась руководителем ООО «Эком-ДВ» с 22 апреля 2021 г. и одним из двух участников общества с долей 50%. После неисполнения обществом своих обязательств перед РЖД банк выплатил по гарантии 2,78 млн рублей и предъявил регрессные требования к ООО «Эком-ДВ».
Арбитражный суд Костромской области взыскал с ООО «Эком-ДВ» в пользу ПАО «Совкомбанк» задолженность, проценты, неустойки и штрафы на общую сумму более 6,6 млн рублей.
Однако в марте 2022 г. в ЕГРЮЛ были внесены записи о недостоверности сведений о Татьяне Контаевой как о руководителе и участнике общества. А в феврале 2023 г. ООО «Эком-ДВ» было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, что сделало невозможным взыскание долга.
«Совкомбанк» обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском о привлечении Татьяны Контаевой к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Эком-ДВ» и взыскании 6,6 млн рублей. Суд первой инстанции, с которым согласилась апелляция, отказал в удовлетворении иска. «Совкомбанк» обратился в Арбитражный суд Дальневосточного округа, рассказал ТГ-канал «Субсидиарная ответственность».
Что решили нижестоящие суды
Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска ПАО «Совкомбанк», руководствуясь положениями ст. 53, 53.1, 87 ГК РФ и ст. 2, 3, 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Суды исходили из того, что истец не доказал недобросовестность или неразумность действий (бездействия) Татьяны Контаевой, которые привели к неисполнению обязательств общества перед банком. По мнению судов, в материалах дела отсутствовали доказательства каких-либо умышленных действий руководителя по уклонению от исполнения обязательств перед ПАО «Совкомбанк».
Сам факт исключения ООО «Эком-ДВ» из ЕГРЮЛ не является достаточным основанием для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности. Нижестоящие суды пришли к выводу, что ПАО «Совкомбанк» не представило доказательств того, что исключение общества из реестра было спровоцировано Контаевой и имело целью уклонение от исполнения обязательств. Также суды возложили на банк риски неотслеживания текущего статуса контрагента и необращения в регистрирующий орган с возражениями против предстоящего исключения общества из ЕГРЮЛ.
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Дальневосточного округа не согласился с позицией нижестоящих судов. Процессуальная деятельность суда должна осуществляться с учетом необходимости выравнивания объективно предопределенного неравенства в возможностях доказывания между контролирующим лицом и кредитором.
По общему правилу кредитор должен представить доказательства наличия убытков, недобросовестного или неразумного поведения контролирующего лица и причинной связи между таким поведением и невозможностью погашения требований. Однако в случае предоставления убедительной совокупности доказательств, в том числе косвенных, бремя опровержения утверждений истца переходит на ответчика. При этом законодатель упростил доказывание для истцов путем введения опровержимых презумпций.
Отсутствие у юридического лица документов, хранение которых являлось обязательным, закон связывает с тем, что контролирующее лицо привело должника своими неправомерными действиями в состояние невозможности полного погашения требований кредиторов. В такой ситуации презюмируется, что контролирующее лицо скрывает следы содеянного во избежание собственной ответственности.
Презумпция сокрытия следов применима также когда иск о привлечении к субсидиарной ответственности подается вне дела о банкротстве — в случае исключения юридического лица из реестра как недействующего («брошенный бизнес»). Иное создавало бы неравенство в правах кредиторов и приводило бы к получению необоснованного преимущества контролирующими лицами только в силу того, что они избежали процедуры банкротства.
Кассационный суд подчеркнул, что Татьяна Контаева в ходе рассмотрения дела не заявила возражений по доводам истца, не обеспечила явку в судебные заседания, не раскрыла информацию о хозяйственной деятельности общества и причинах ее прекращения, не представила пояснения об обстоятельствах неудовлетворения требований банка. Такое поведение не соответствует стандартам процессуального поведения добросовестного лица, обязанного действовать в интересах контролируемого юридического лица и кредиторов.
Нижестоящие суды в условиях отсутствия со стороны ответчика каких-либо контраргументов возложили всецело на истца обязанность по представлению доказательств. О самом наличии таких доказательств банку может быть неизвестно в силу невовлеченности в корпоративные правоотношения, что заведомо влечет неравенство процессуальных возможностей сторон.
Также суды не исследовали обстоятельства осуществления хозяйственной деятельности в обществе под руководством Татьяны Контаевой в период возникновения обязательств перед ПАО «Совкомбанк», не анализировали структуру бухгалтерского баланса, не запрашивали информацию об имущественном положении общества и совершенных сделках. В условиях пассивной процессуальной позиции ответчика необходимые сведения могли быть запрошены у второго участника ООО «Эком-ДВ» — Сергея Коваля.
Кассационный суд указал на необходимость установления причин внесения в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений о Татьяне Контаевой, поскольку материалы дела не содержат документов, послуживших основанием для таких записей. Также информация о финансовом положении общества могла быть получена из документов, представленных ООО «Эком-ДВ» банку при получении банковской гарантии.
Наконец, окружной суд не согласился с выводами нижестоящих судов о возложении на банк рисков неотслеживания статуса контрагента и необращения с возражениями против исключения из ЕГРЮЛ. Непринятие кредитором таких мер не является основанием для освобождения контролирующего лица от ответственности, поскольку неблагоприятные последствия не могут быть возложены на кредитора лишь потому, что он не смог помешать контролирующим лицам «бросить бизнес».
Правопорядок не поощряет «брошенный бизнес», а закон обязывает ликвидировать созданное юридическое лицо в установленном порядке, гарантирующем соблюдение прав кредиторов.
Итог
Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил решение Арбитражного суда Хабаровского края и постановление Шестого арбитражного апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Почему это важно
Аргументация кассационного суда представляется недостаточно обоснованной, отметил Юрий Князев, старший юрист практики разрешения споров Юридической компании BIRCH.
Заявитель кассационной жалобы, продолжил он, связывает недобросовестность контролирующего лица лишь с фактом исключения общества из ЕГРЮЛ в связи с записью о недостоверности сведений (при этом Верховный Суд РФ неоднократно высказывался о том, что сама по себе недостоверность сведений в ЕГРЮЛ не является основанием для субсидиарной ответственности лиц, контролирующих исключенную из реестра организацию – см. определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 января 2020 г. № 306-ЭС19-18285, от 25 августа 2020 г. № 307-ЭС20-180, от 30 января 2023 г. № 307-ЭС22-18671), иных доводов не приводит.
А кассационный суд наказал ответчика за то, что тот не представил отзыв. Из постановления не следует, что банк, будучи профессиональным участником оборота, отслеживал правовой статус своего должника и, например, направил в ФНС возражения против исключения из ЕГРЮЛ в связи с наличием долга. Сумма задолженности перед банком в действовавшей редакции Закона о банкротстве позволяла банку обратиться с заявлением о банкротстве должника – этого он также, видимо, не сделал. Суд указывает (дословно): «финансовая услуга по выдаче банковских гарантий подразумевает, в том числе, проверку банком платежеспособности принципала в целях минимизации своих рисков», соответственно, сам банк должен был удостовериться в надлежащем финансовом состоянии должника перед выдачей банковской гарантии.
В судебном акте отсутствуют указания на какие-либо признаки умышленной ликвидации специально в целях сокрытия от возвращения долгов, выработанные судебной практикой (например, существенное количество непогашенных исполнительных производств к моменту ликвидации или судебных разбирательств о взыскании денежных средств и пр.), указал Юрий Князев.
По мнению Ксении Доможировой, данное постановление является логичным продолжением позиции ВС РФ в отношении распределения бремени доказывания в аналогичных спорах.
В настоящий момент, подчеркнула она, правоприменительная практика выработала однозначный подход в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности КДЛ «брошенного бизнеса». СКЭС ВС РФ неоднократно обращала внимание судов на несправедливость подхода, при котором пассивная процессуальная позиция КДЛ в ходе рассмотрения спора обеспечивает им принятие судебного акта в их пользу в связи с недоказанностью признака недобросовестности в их деятельности (см., например, определение СКЭС ВС РФ от 26 апреля 2024 г. по делу № А40-165246/2022).
В данном случае нижестоящие суды не учли данную практику ВС РФ и необоснованно возложили бремя доказывания недобросовестности действий КДЛ на истца, у которого возможность такого доказывания объективно ограничена. Само по себе постановление не вносит каких-либо изменений в судебную практику. При этом последовательное применение судами выработанного подхода может способствовать снижению частоты недобросовестного уклонения контролирующими лицами ликвидационных процедур во избежание расчетов с кредиторами посредством механизма «брошенного бизнеса».