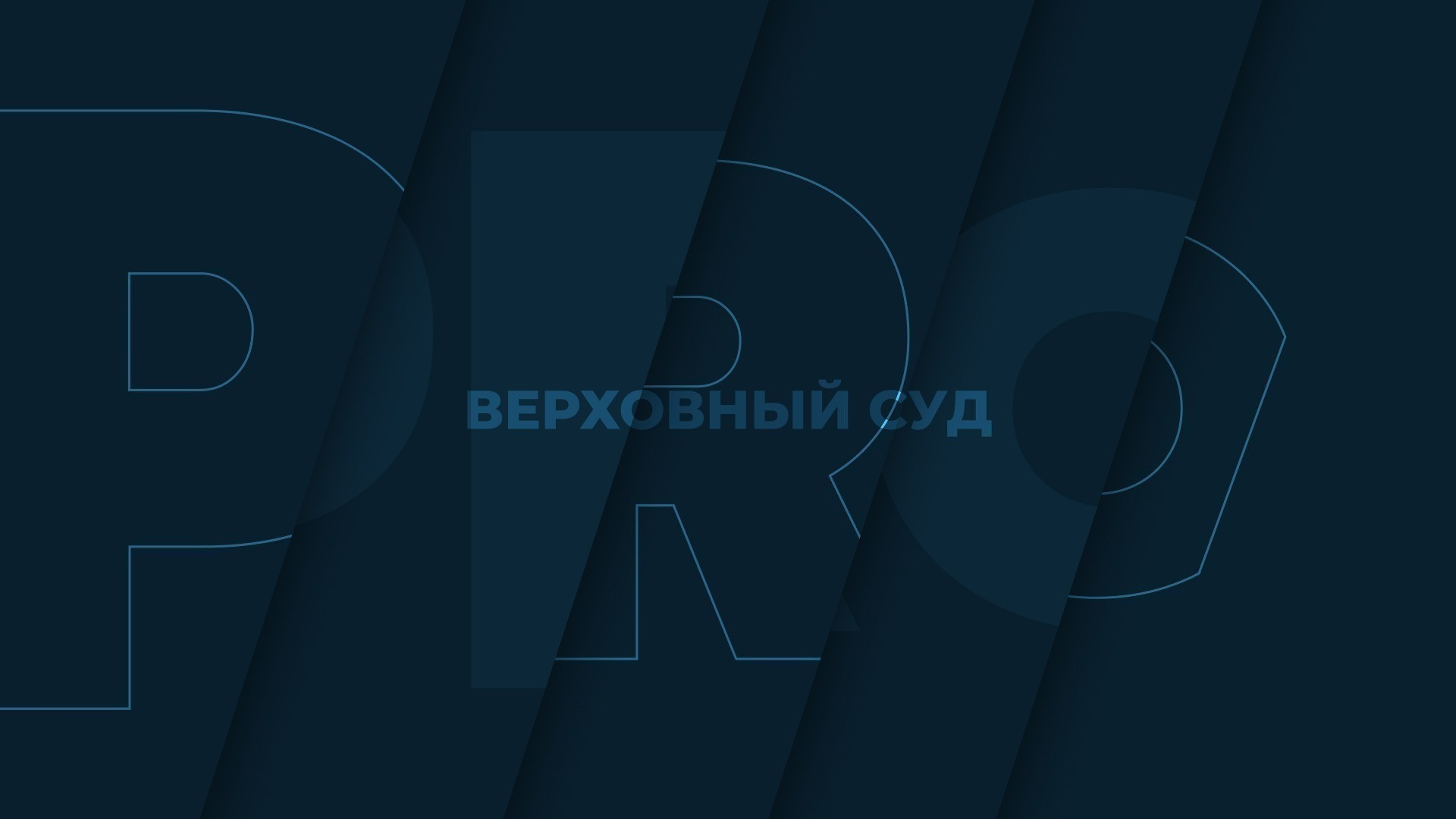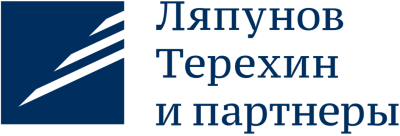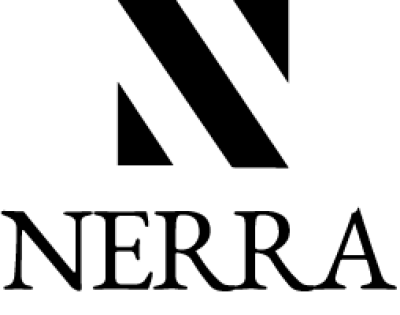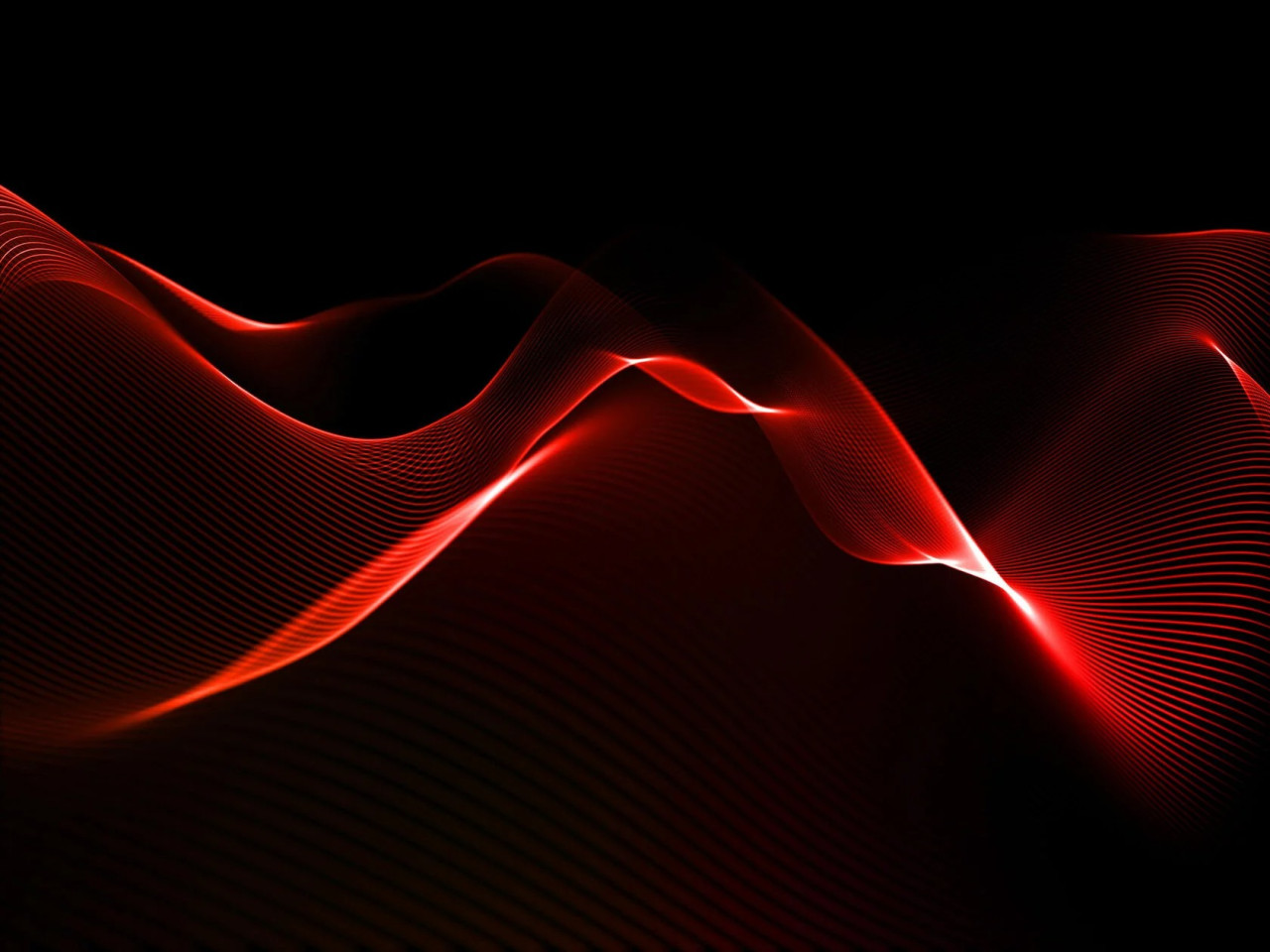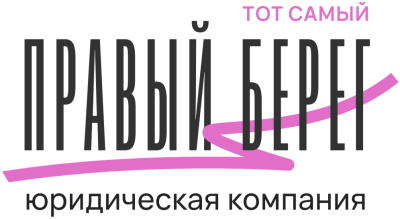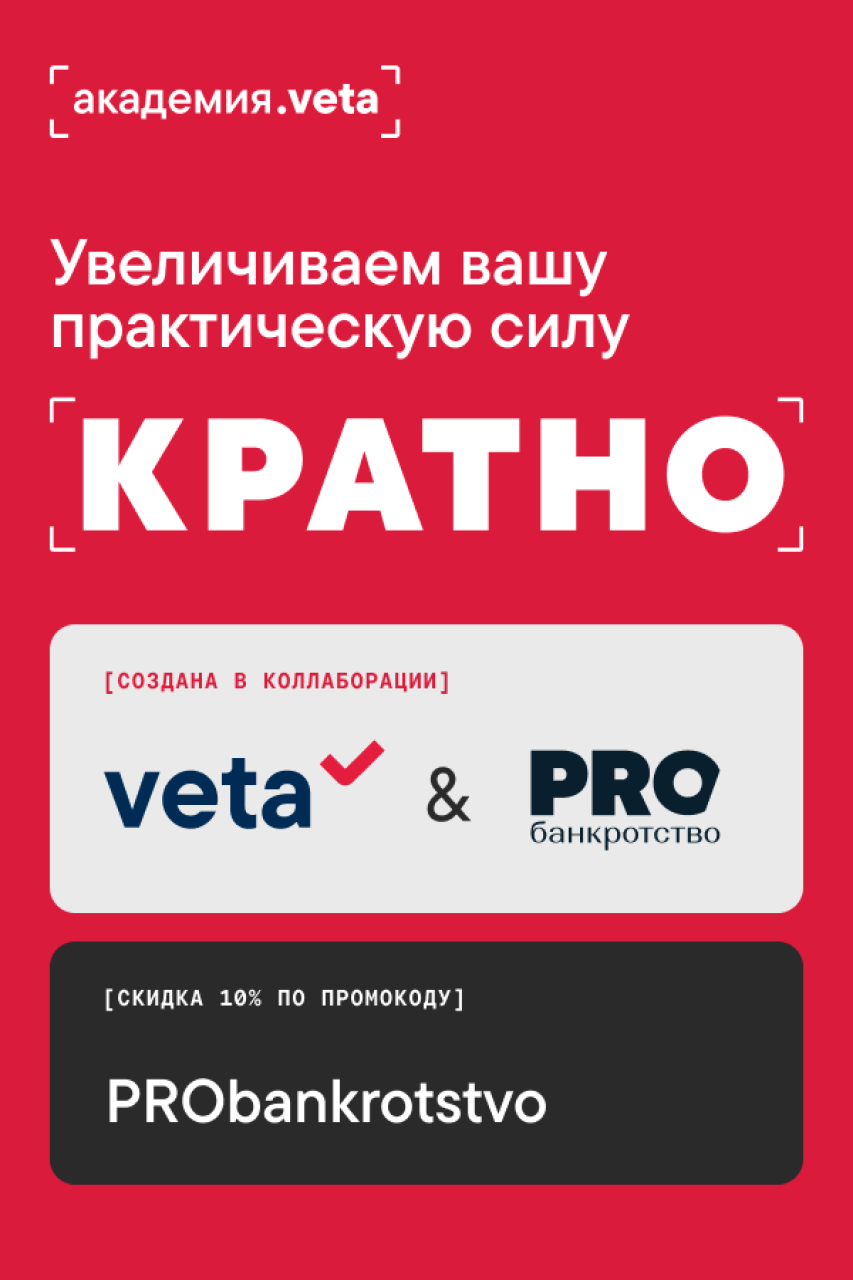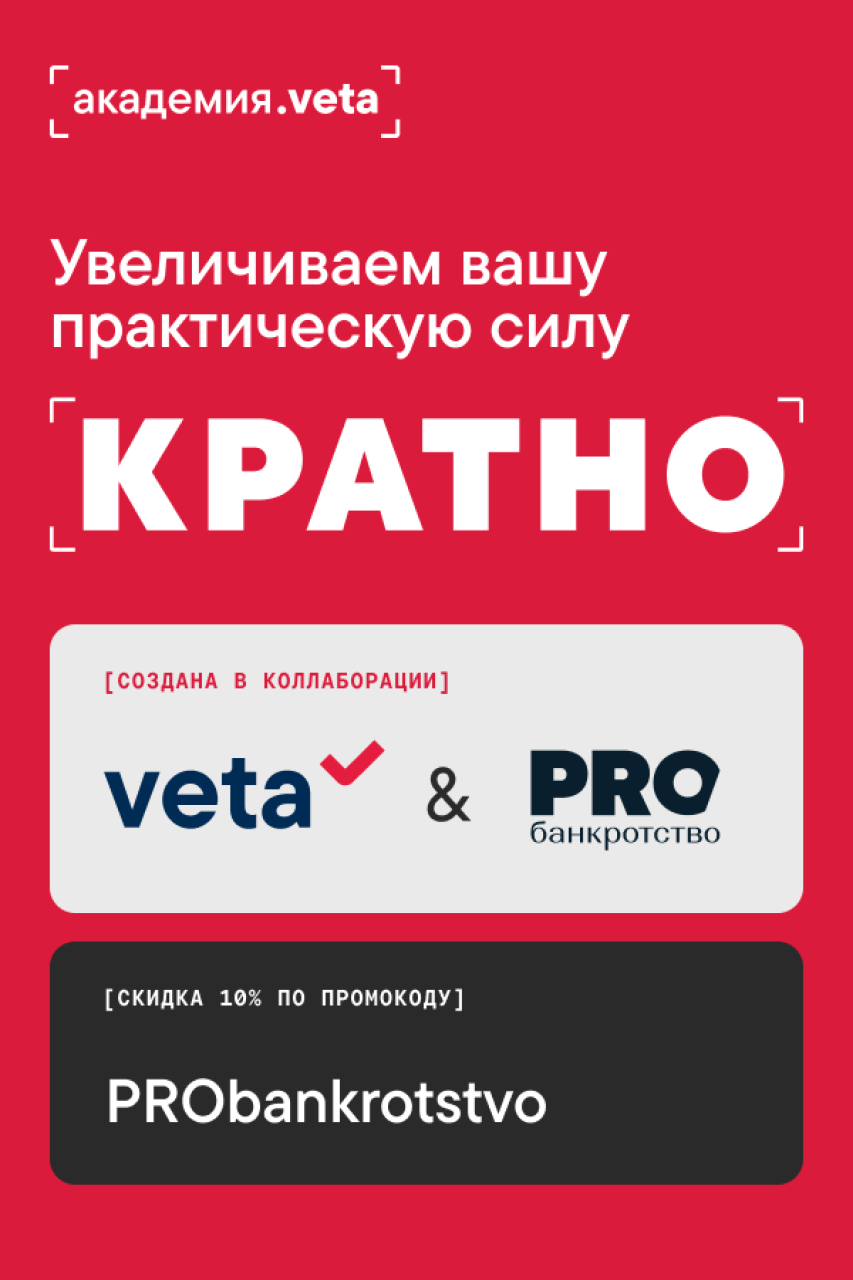Президиум Верховного Суда РФ выпустил Обзор судебной практики по делам о банкротстве граждан, в котором, в том числе, разъяснил, что длительное неудовлетворение требований кредитора само по себе не может квалифицироваться как злостное уклонение от погашения задолженности (п. 56 Обзора).
В качестве примера в Обзоре приводится показательное дело, где должник после расторжения предварительного договора купли-продажи недвижимости не вернул полученный аванс в течение двух лет. Суд первой инстанции квалифицировал такое поведение как злостное уклонение и не освободил гражданина от долга после процедуры реализации имущества. Однако вышестоящие инстанции пришли к противоположным выводам.
Апелляционный суд установил, что должник действовал добросовестно: он израсходовал основную часть полученного аванса на погашение банковского кредита, обеспеченного ипотекой. Благодаря этим действиям была снята запись об ипотеке с недвижимого имущества, а проживавшие в жилом доме лица были сняты с регистрационного учета. При этом основной договор купли-продажи не был заключен по вине самого кредитора. В ходе процедуры банкротства должник не скрывал доходы и направлял их на расчеты с кредиторами.
Кассационная инстанция попыталась вернуться к первоначальной квалификации, указав, что освобождение должника от обязательств «неосновательно нивелирует последствия недобросовестных действий». По мнению окружного суда, должник израсходовал часть аванса по своему усмотрению и совершил действия, направленные на защиту недвижимости исполнительским иммунитетом.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ не согласилась с такой позицией и восстановила решение апелляции. Высшая инстанция подчеркнула, что злостное уклонение выражается в стойком умышленном нежелании должника исполнять обязательство при наличии такой возможности. Такое поведение не ограничивается простым бездействием — как правило, должник продолжительное время совершает намеренные действия для достижения противоправной цели.
Верховный Суд привел конкретные признаки злостного уклонения:
умышленное сокрытие доходов или имущества;
совершение мнимых сделок по статье 170 ГК РФ;
изменение места жительства или имени без уведомления кредитора;
противодействие судебному приставу-исполнителю или финансовому управляющему;
ведение явно роскошного образа жизни несмотря на требования о погашении долга.
При этом суд особо отметил необходимость отграничивать злостное уклонение от непогашения долга вследствие отсутствия возможности, нерационального ведения домашнего хозяйства или стечения жизненных обстоятельств.
В рассмотренном деле Верховный суд не нашел признаков злостного уклонения, учитывая, что неосновательное обогащение возникло по обстоятельствам вне контроля должника — в результате поведения самого кредитора. Должник погашал задолженность как в рамках исполнительного производства, так и в ходе процедуры банкротства настолько, насколько позволяли его доходы. Он не совершал действий, которые отрицательно повлияли бы на ход исполнительного производства, формирование конкурсной массы и возможность удовлетворения требований кредиторов.
Почему это важно
Как известно, нормы п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве содержат перечень случаев, в которых гражданин не освобождается от обязательств при завершении процедуры банкротства, напомнил Илья Абрамов, советник Юридической фирмы INTELLECT.
Наверное, самым неопределенным случаем, по его словам, является указание закона на злостность уклонения должника от исполнения его обязательств. Сам термин «злостное» предполагает широкую степень дискреции суда в определении надлежащего либо ненадлежащего поведения. В п. 56 Обзора ВС РФ дает весьма подробное толкование вопроса о том, что, по его мнению, является злостным уклонением от погашения долга.
Генеральная установка ВС РФ такова: злостное уклонение от исполнения его обязательств выражается прежде всего в умышленных действиях либо бездействии должника. Необходимо увидеть в поведении должника именно цель уклонения, для достижения которой он предпринял конкретные шаги. ВС приводит ориентиры для выявления злостности в том или ином поведении должника. Это могут быть, например, действия по уменьшению либо сокрытию конкурсной массы (вывод активов по мнимым сделкам, сокрытие реальных доходов и места жительства и т.д.), противодействие судебному приставу-исполнителю либо финансовому управляющему, а также явно роскошный образ жизни. Здесь можно вернуться к главной дискуссии: банкротство гражданина нужно заслужить, т.е. сделать все зависящее от должника для освобождения от долгов, либо достаточно формальной констатации факта превышения пассивов над активами?
Верховный Суд не говорит о том, что списание долгов — это благо, которое нужно заслужить своим поведением, но не позволяет и склониться в другую сторону — если ты несостоятелен, то будь максимально добросовестен с кредиторами. Именно на выработку баланса интересов должника и кредиторов направлено разъяснение п. 56 Обзора, указал Илья Абрамов.
Кирилл Харитонов, арбитражный управляющий Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет"», отметил, что разъяснение п. 56 необходимо рассматривать в системной связи со всеми разъяснениями разделов об освобождении и отказе от освобождения от обязательств данного Обзора.
Критерии решения вопроса освобождать или не освобождать гражданина-банкрота от долгов по итогам процедуры реализации имущества, пояснил он, основаны на тезисе, что основной целью банкротства гражданина является социальная реабилитация в виде освобождения от непосильных обязательств и предоставления возможности заново выстраивать экономические отношения.
Отказ в такой социальной реабилитации возможен только в случае либо противоречия с более значимыми социальными интересами (возмещение вреда жизни и здоровью, уплата алиментов, получение вознаграждения за труд), либо злоупотребления правом со стороны гражданина, когда невозможность погашения требований кредиторов вызвана умышленными недобросовестными противоправными действиями (определения Верховного Суда РФ от 28 января 2025 г. № 301-ЭС24-13995, от 6 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-25685 и от 24 октября 2022 г. № 307-ЭС22-12512). Сама по себе объективная противоправность поведения должника (неисполнение принятых на себя обязательств) не может служить признаком недобросовестного поведения, заключил он.
При квалификации поведения должника как до, так и в течение процедуры банкротства необходимо исходить из направленности воли и разграничивать неразумное (обусловленное даже грубой неосторожностью, отсутствием специальных познаний) и недобросовестное поведение. Также необходимо учитывать поведение самого кредитора, которое могло способствовать принятию на себя должником непосильных неисполнимых обязательств. Недобросовестное поведение всегда носит умышленный характер, выражается в введении кредиторов в заблуждение с целью получения денежных средств и изначальной цели не исполнять денежное обязательство, в активном или пассивном противодействии погашению долгов при наличии к тому реальной возможности.
По мнению Евгении Тихановой, старшего юриста Адвокатской конторы «Аснис и партнеры», в данном пункте Обзора Верховный Суд сформулировал основной критерий квалификации действий должника в качестве злостного уклонения от погашения задолженности — наличие у должника умысла не исполнять обязательство при наличии у него такой возможности. Таким образом, отметила она, Верховный Суд связывает положения абз. 4 п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве исключительно с недобросовестностью должника.
Исходя из позиции ВС РФ, неразумность действий физического лица не может считаться достаточной для квалификации в качестве злостного уклонения. Этот вывод ВС РФ является довольно важным для практики, поскольку ориентирует нижестоящие суды на то, что сама по себе неразумность действий гражданина не может быть основанием для его неосвобождения от долгов: как правило, требуются именно активные недобросовестные действия должника. Тем самым Верховный Суд РФ повышает стандарт доказывания по данному основанию. Подобный подход Верховного Суда оправдан, поскольку квалификация действий должника как злостного уклонения от погашения задолженности фактически лишает смысла всю процедуру банкротства — должник не получает освобождения от долгов, в то время как основная цель банкротства граждан, — это именно их социальная реабилитация, предоставление им возможности начать свою хозяйственную жизнь «с чистого листа».
Лишение граждан такой возможности, по словам Евгении Тихановой, допустимо только в случаях, когда имеет место явное недобросовестное поведение должника, пытающегося использовать процедуру банкротства в корыстных целях.
Выраженная Верховным Судом позиция поможет нижестоящим судам в разграничении недобросовестных и просто неразумных действий должников — физических лиц, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению баланса интересов кредиторов и должника, резюмировала она.