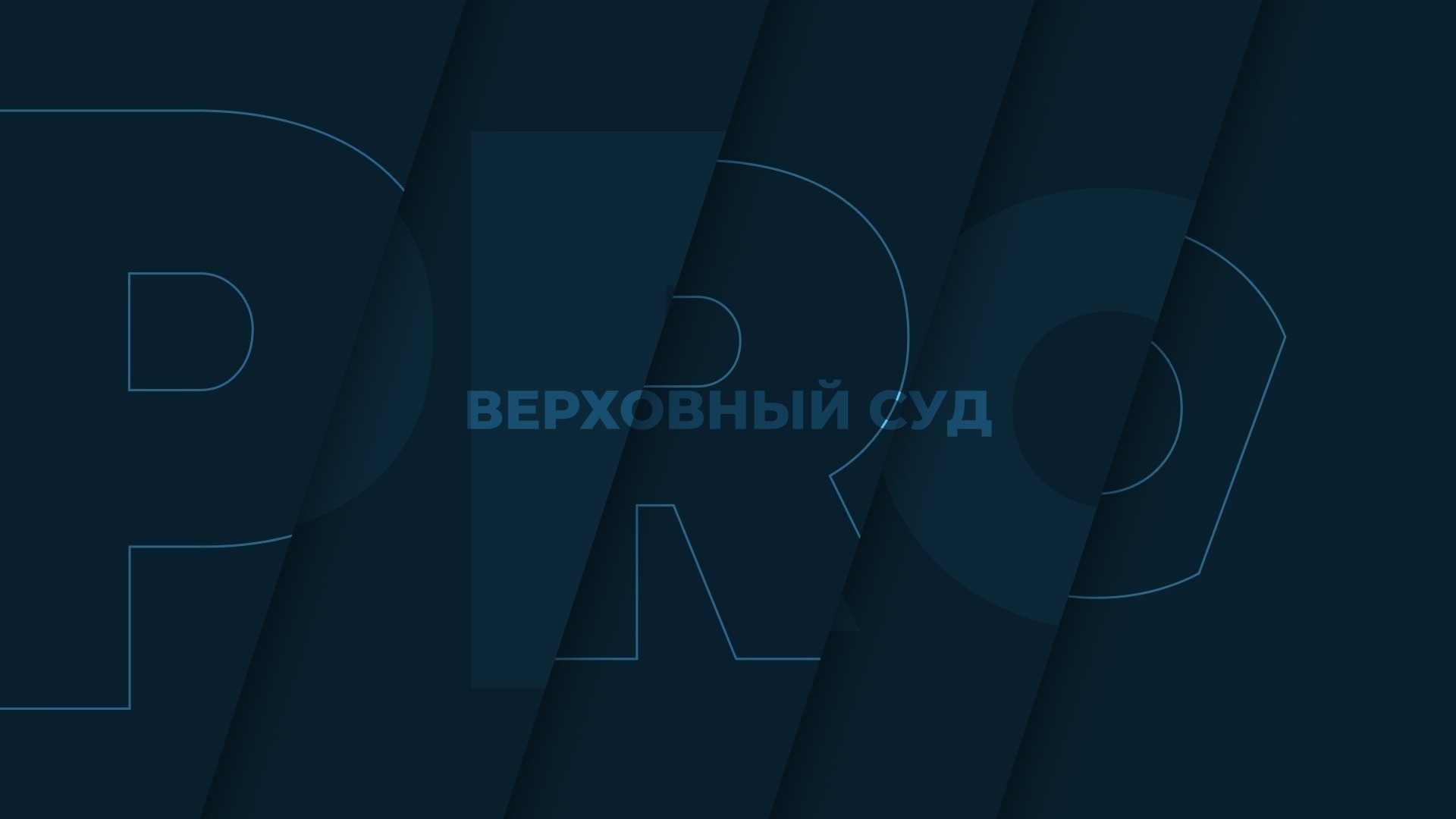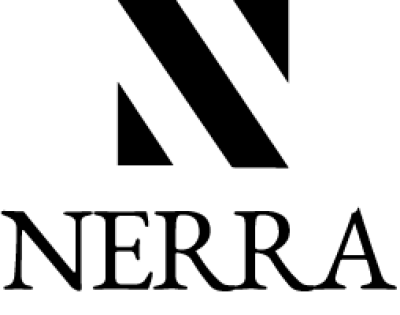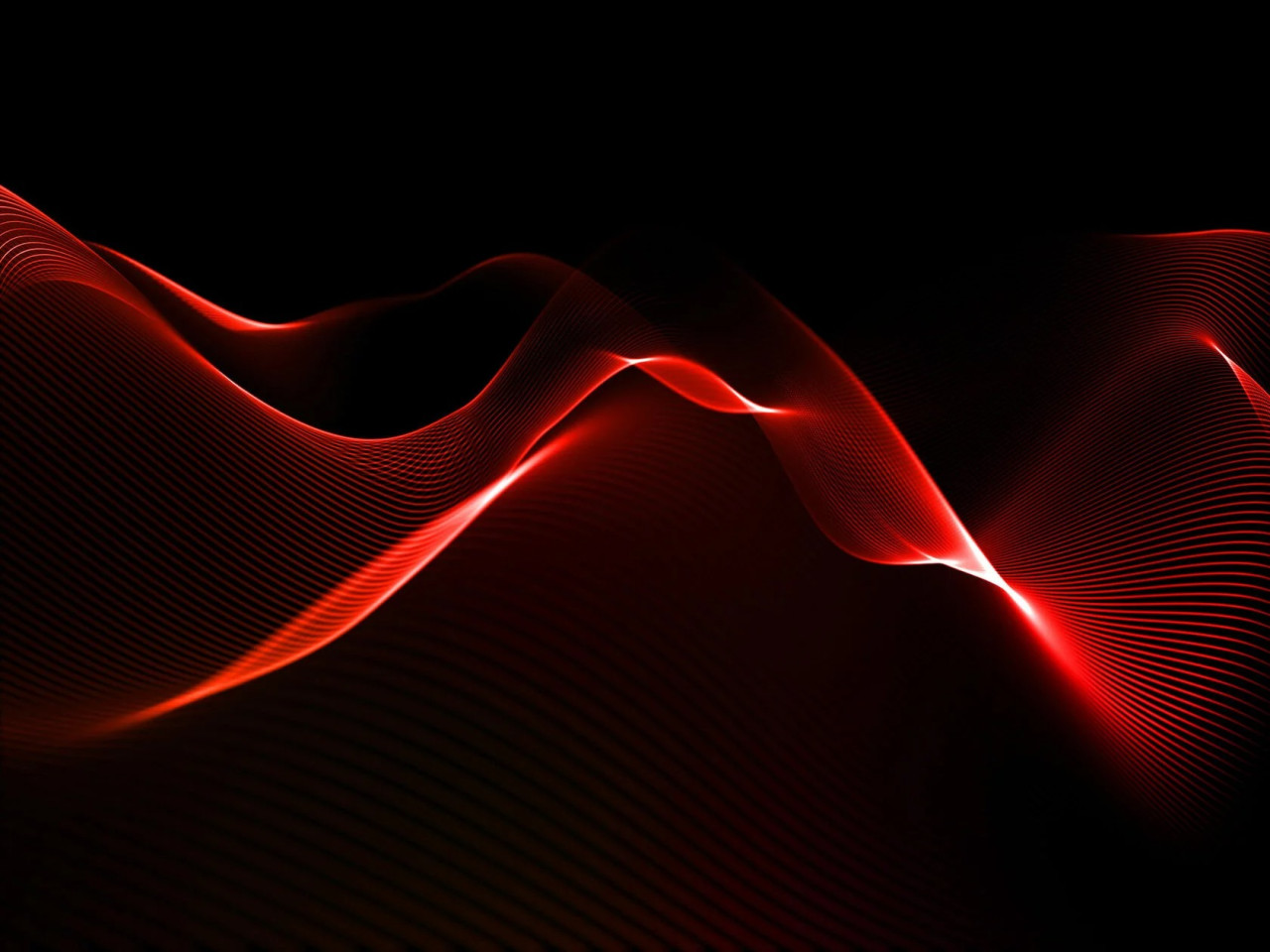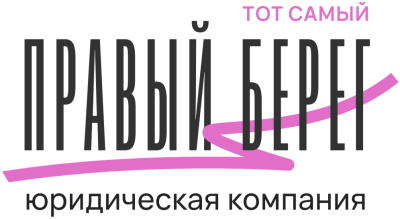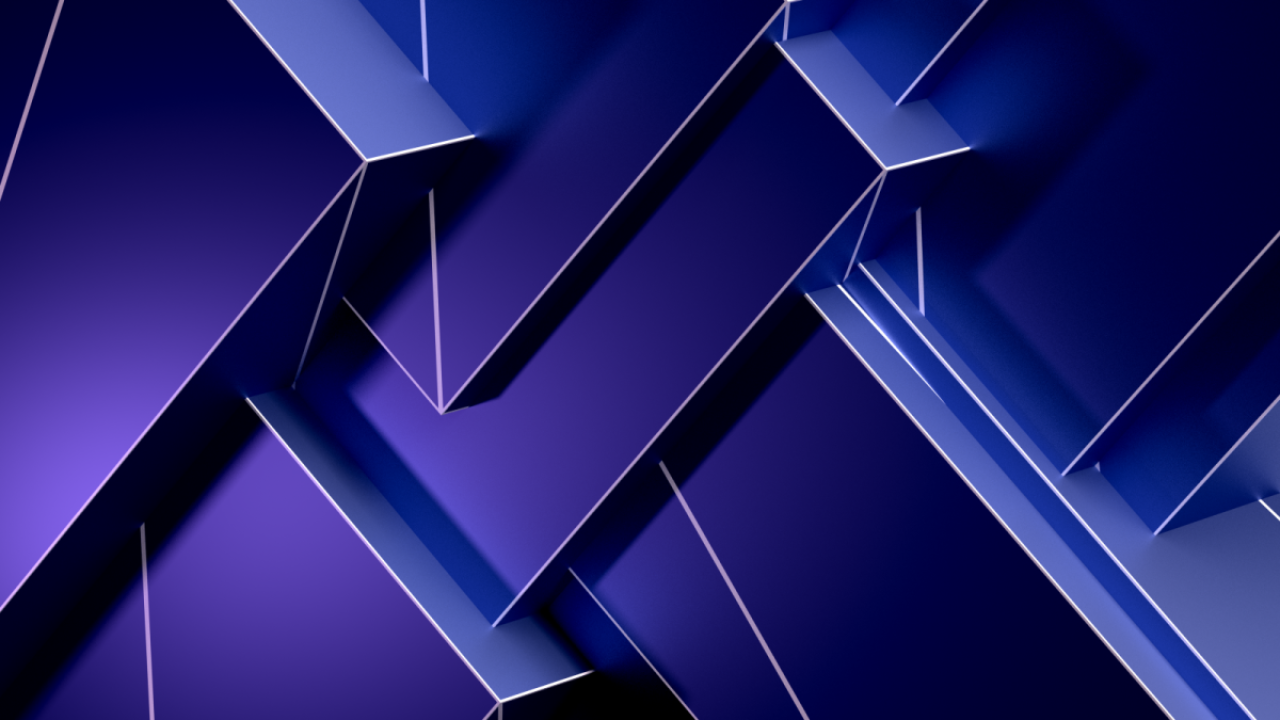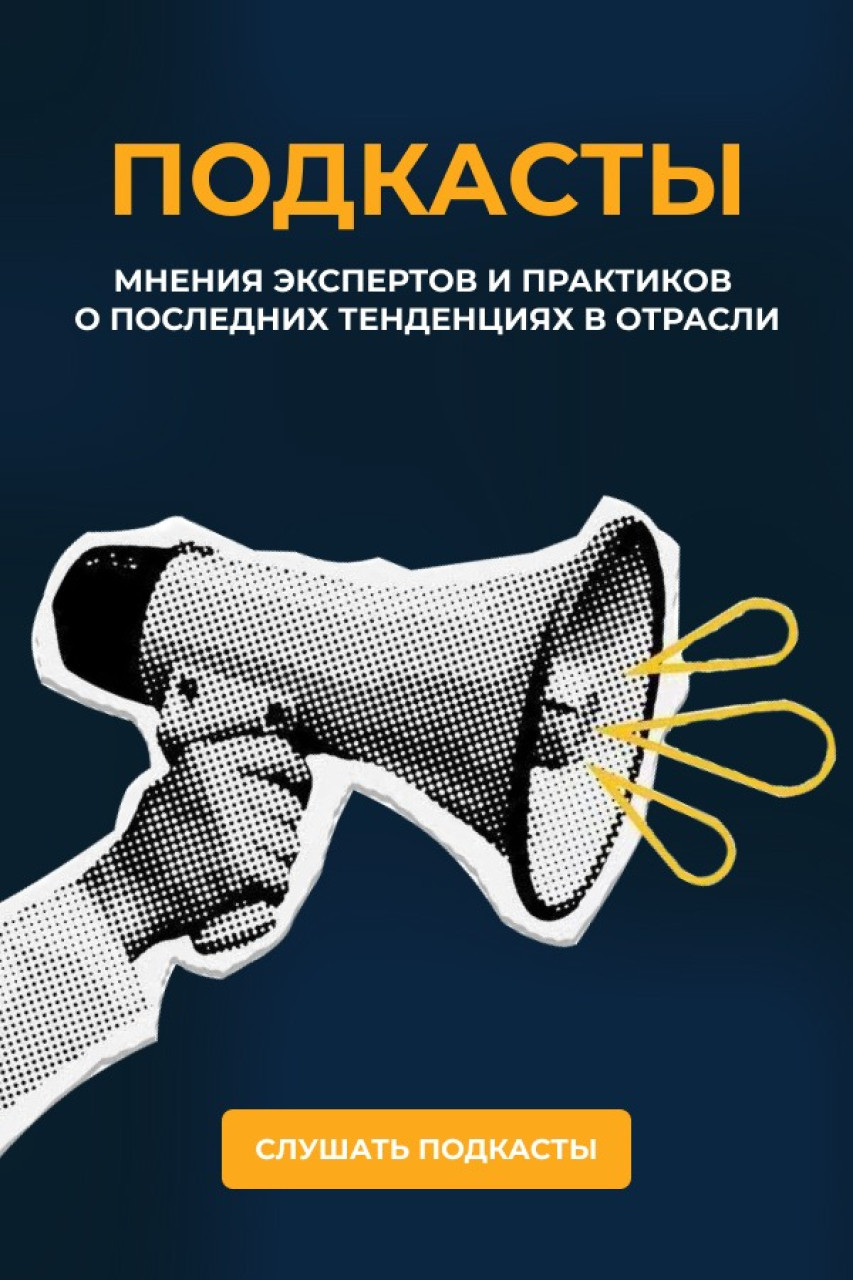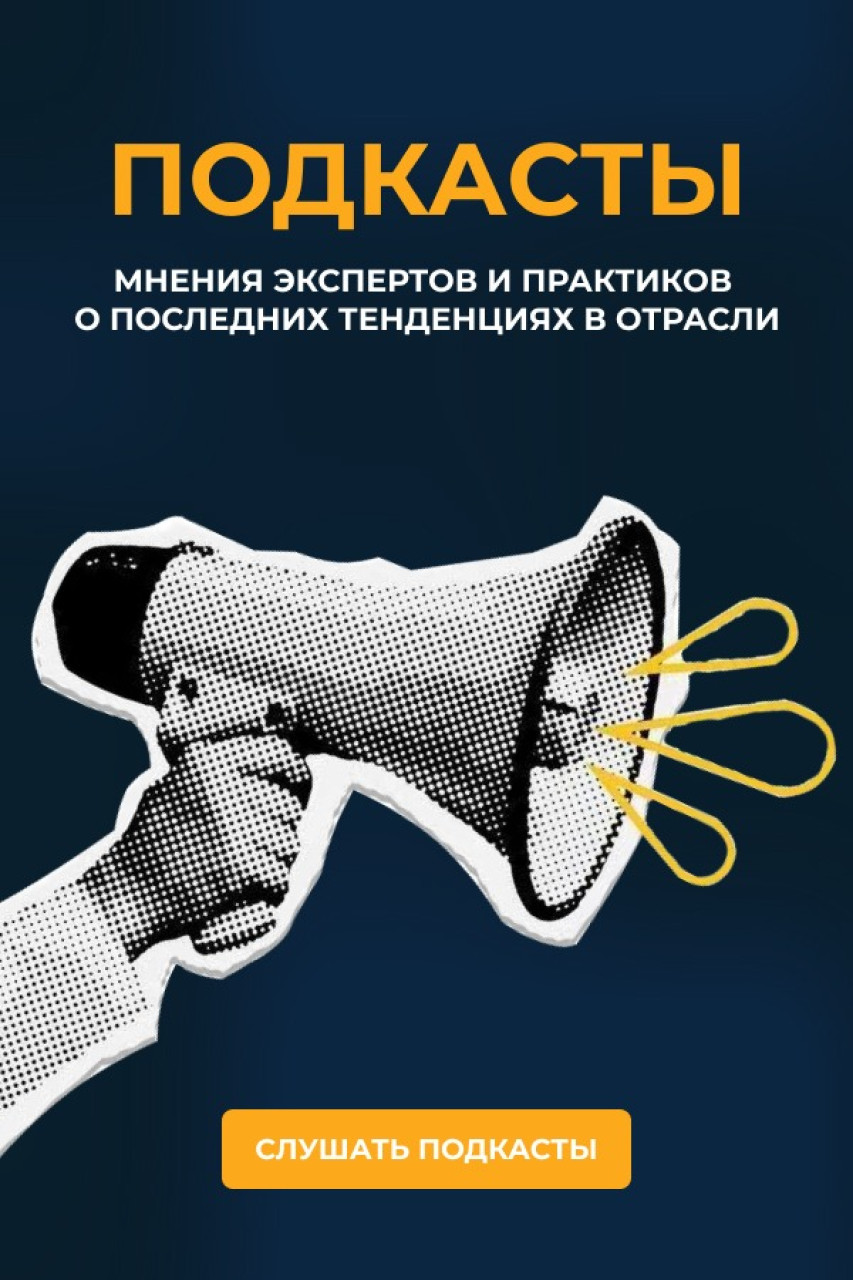В 2017 г. Дмитрий и Ирина Дегтярова заключили брачный договор. В рамках банкротства Дмитрия Дегтярова один из кредиторов (АКБ «Легион») обратился в суд с заявлением о признании договора недействительным, утверждая, что он был заключен в условиях неплатежеспособности должника с целью вывода активов. Суды первой и кассационной инстанций удовлетворили требования банка. Ирина Дегтярова пожаловалась в Верховный Суд, указав, что спор касается активов, приобретенных ею после заключения брачного договора за счет собственных и кредитных средств, а значит, они не являлись предметом раздела общего имущества супругов. Кроме того, она отметила, что требование банка направлено на обход установленного законом трехлетнего периода подозрительности. Судья Верховного Суда РФ И.А. Букина передала жалобу в Экономколлегию, которая отменила постановление окружного суда и оставила в силе постановление суда апелляционной инстанции (дело № А40-244083/2022).
Фабула
В рамках дела о банкротстве Дмитрия Дегтярова кредитор АКБ «Легион» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным брачного договора от 26 декабря 2017 г., заключенного между Дмитрием и Ириной Дегтяровыми. Банк утверждал, что на момент подписания договора Дмитрий Дегтяров уже был неплатежеспособен, поскольку поручался по необслуживаемым с июля 2017 г. кредитам, а в период с ноября 2017 г. по март 2021 г. осуществлял вывод активов (отчуждение 28 объектов недвижимости на 145 млн рублей). Банк попросил признать договор недействительным по ст. 10 и 168 ГК РФ.
Суды первой и кассационной инстанций удовлетворили требования банка. Ирина Дегтярова пожаловалась в Верховный Суд, который решил рассмотреть этот спор.
Что решили нижестоящие суды
Арбитражный суд города Москвы признал брачный договор недействительным, применив последствия недействительности в виде восстановления режима общей совместной собственности, в том числе на имущество, приобретенное после подписания договора.
Девятый арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции и отказал в удовлетворении требований, указав, что права кредиторов Дмитрия Дегтярова не были нарушены, а имущество Ирины Дегтяровой было приобретено на ее доходы и кредитные средства.
Арбитражный суд Московского округа поддержал позицию первой инстанции, отметив, что должник не доказал расходование средств от продажи имущества в личных целях, не связанных с содержанием семьи.
Что думает заявитель
Ирина Дегтярова указала, что спор касается активов, приобретенных ею после заключения брачного договора за счет собственных и кредитных средств, а значит, они не являлись предметом раздела общего имущества супругов.
Она сослалась на позицию Верховного Суда о недопустимости оспаривания брачного договора на будущее время. Заявитель отметила, что сделки Дмитрия Дегтярова по отчуждению недвижимости оспариваются финансовым управляющим отдельно как безвозмездные. По ее мнению, признание договора ничтожным по статьям 10 и 168 ГК РФ необоснованно, так как имущественное положение Дмитрия Дегтярова в результате подписания не ухудшилось и вред кредиторам не причинен.
Также требование банка направлено на обход трехлетнего периода подозрительности, установленного законом о банкротстве.
Что решил Верховный Суд
Судья Верховного Суда РФ Букина И.А. передала жалобу в Экономколлегию.
Верховный Суд установил, что брачный договор изменил режим общей совместной собственности супругов на режим раздельной собственности. Супруги определили, что приобретенное в браке имущество является собственностью того супруга, на чье имя оно зарегистрировано, независимо от того, кто оплачивал это имущество.
Судебная коллегия отметила, что само по себе отступление от законного режима имущества супругов через заключение брачного договора предусмотрено законодательством и не может свидетельствовать о злоупотреблении правом. Для признания брачного договора недействительным необходимо доказать наличие соответствующей совокупности условий.
АКБ «Легион» ссылался на приобретение Ириной Дегтяровой после заключения брачного договора доли в ООО «Энергомаш-РЗА», земельного участка с домом и автомобиля. Банк утверждал, что эти активы приобретены за счет средств Дмитрия Дегтярова от продажи его недвижимости.
Однако апелляционный суд правильно определил: имущество, поступившее в собственность Ирины Дегтяровой после заключения брачного договора, приобретено на ее собственные доходы и кредитные средства. ООО «Энергомаш-РЗА» развивалось за счет банковского кредита, государственных субсидий, участия в тендерах и исполнения госконтрактов, а не за счет финансирования от Ирины Дегтяровой.
Заключение брачного договора не повлекло уменьшения имущественных активов Дмитрия Дегтярова. Кредиторы, чьи обязательства возникли до заключения брачного договора, не вправе были рассчитывать на удовлетворение требований за счет личного имущества Ирины Дегтяровой.
Изменение режима общего имущества супругов на будущее время не могло нарушить права АКБ «Легион», поскольку Дмитрий Дегтяров поручился за исполнение обязательств юридических лиц, и это является его личным обязательством. Если бы на дату заключения брачного договора у супругов было неисполненное общее обязательство, изменение режима имущества не имело бы правового эффекта в отношении такого обязательства.
Суд округа превысил пределы полномочий, переоценивая фактические обстоятельства, установленные апелляционным судом. Апелляционный суд обоснованно установил отсутствие вреда кредиторам от заключения брачного договора.
Верховный Суд также поддержал вывод апелляционного суда о том, что оспаривание брачного договора как ничтожного направлено на преодоление трехлетнего периода подозрительности. АКБ «Легион» не привел нарушений, выходящих за пределы диспозиции п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а сделка совершена за пять лет до возбуждения процедуры банкротства.
Итог
ВС отменил постановление окружного суда и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции.
Почему это важно
ВС РФ сделал правильный вывод о том, что отступление от законного режима имущества супругов посредством заключения брачного договора предусмотрено действующим законодательством и само по себе не может свидетельствовать о злоупотреблении правом при его заключении, отметила Виктория Шевцова, адвокат, управляющий партнер МКА «Рубикон».
Исходя из разъяснений п. 9 постановления № 48 брачный договор, нарушающий права и законные интересы кредиторов, может быть оспорен в деле о банкротстве на основании специальных норм Закона о банкротстве (ст. 61.2, 61.3) и по общегражданским основаниям (ст. 10 и 168, 170, п. 1 ст. 174.1 ГК РФ), т.е. для признания его недействительным необходимо доказать наличие соответствующей совокупности условий, указала она.
По ее мнению, ВС РФ также сделал верный вывод о том, что, поскольку спорные активы приобретены супругой должника после заключения брачного договора за счет личных и кредитных денежных средств, то они не являлись предметом раздела общего имущества супругов, а стали личной собственностью И.А. Дегтяровой по факту приобретения ей.
Заключение брачного договора не повлекло уменьшения имущественных активов должника, а кредиторы, обязательства перед которыми возникли ранее заключения брачного договора, не вправе были рассчитывать на удовлетворение своих требований за счет личного имущества супруги должника.
Рассматриваемый судебный акт видится крайне интересным и важным для судебной практики оспаривания брачного договора в деле о банкротстве одного из супругов, полагает Даниил Ермолаев, ведущий юрисконсульт Юридической компании «Юрэнергоконсалт».
Прежде всего он отметил, что Верховный Суд ссылается на актуальные правовые позиции недавно вышедшего Обзора судебной практики по делам о банкротстве граждан от 18 июня 2025 г., многие из которых в свое время были изложены в определении от 13 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11553 по делу № А40-172945/2018.
Нижестоящими судами было установлено, что спорное имущество супруги должника, включая долю в уставном капитале общества, приобретенное ей после заключения брачного договора, было приобретено за счет ее личных средств, а также заемных денежных средств, указал он. Однако, исходя из сформулированных в п. 44 и 46 Обзора правовых позиций следует, что:
в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ (полученные средства были использованы на нужды семьи), бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей на распределение долга (признание обязательства общим);
по общему правилу долги, возникшие в связи с предпринимательской и иной экономической деятельностью должника, являются его личным обязательством.
Из указанного, по мнению Даниила Ермолаева, следует, что приобретенная супругой должника доля в обществе в любом случае являлась бы ее личным имуществом, независимо от факта заключения спорного брачного договора. Следует отметить, что кредитор по общему обязательству супругов, возникшему до заключения брачного договора, не связан с последующим изменением режима собственности супругов на основании заключенного ими впоследствии брачного договора (п. 41 Обзора).
Это означает, пояснил он, что если бы обязательства перед банком являлись общими (использовались на нужды семьи, а не представляли бы собой безвозмездную коммерческую сделку – поручительство), то факт заключения брачного договора не затрагивал бы интересов банка, так как для него бы действовала фикция сохранения режима совместной собственности супругов (с сохранением исключений, когда режим совместной собственности по общему правилу не возникает, например, п. 1 ст. 35 СК РФ).
Однако обязательства самого супруга-должника перед банком, продолжил он, возникли на основании предоставленного поручительства по обязательствам возглавляемых им организаций, что также справедливо исключает возможность признания данных обязательств общими обязательствами супругов независимо от факта заключения брачного договора.
Возможность изменения законного режима собственности супругов предусмотрена действующим семейным законодательством и использование данного механизма супругами само по себе не может свидетельствовать о наличии у них цели причинения имущественного вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве) и о недобросовестности (ст. 10 ГК РФ) в целом. При заключении брачного договора должник получил равноценное встречное исполнение, его активы не были использованы для приобретения имущества супругой (с последующим возникновением у нее личной собственности) для целей «размывания» личного имущества супруга-должника, на которое могли бы претендовать кредиторы. Ввиду чего Верховный Суд обоснованно констатировал, что оснований для оспаривания брачного договора в такой ситуации не имелось.
Анна Скорова, ведущий юрист Юридической фирмы INTELLECT, указала, что в определении Верховного Суда рассматривается вопрос о возможности признания брачного договора, изменяющего режим совместной собственности супругов (в отношении как имеющегося имущества, так и приобретенного в будущем) на основании общих норм ст. 10, 168 ГК РФ, т.е. с выходом за пределы подозрительности ст. 61.2 Закона о банкротстве.
Она также упомянула, что Экономколлегия руководствовалась правовыми позициями, изложенными в недавнем Обзоре судебной практики по делам о банкротстве граждан, утвержденном Президиумом ВС РФ 18 июня 2025 г. (п. 41, 42, 46), что, по ее словам, свидетельствует о закреплении уже сложившегося подхода к разрешению подобных споров.
В частности, отказывая в признании брачного договора недействительным, ВС обратил внимание на то, что обязательства должника, возникшие из договора поручительства перед банком, являются его личными обязательствами и, следовательно, изменение режима общего имущества супругов в будущем не влияет на права кредиторов, не создает вредоносного эффекта, пояснила Анна Скорова.
Поскольку отступление от законного режима имущества супругов посредством заключения брачного договора предусмотрено действующим законодательством, то оно само по себе не может свидетельствовать о злоупотреблении правом. Что касается квалификации требований на основании общих норм гражданского права (ст. 10, 168 ГК РФ), коллегия указала на отсутствие признаков, свидетельствующих о выходе за пределы подозрительности (ст. 61.2 Закона о банкротстве). По мнению судей, кредитор их заявил исключительно с целью обхода установленного трехлетнего срока – брачный договор был заключен за 5 лет до возбуждения дела о банкротстве.
Случаи перераспределения имущественной массы гражданина-банкрота в семейном кругу – распространенная ситуация. Помимо брачного договора кредиторам и/или арбитражному управляющему иногда приходится оспаривать даже решения судов общей юрисдикции о разделе имущества супругов. При рассмотрении каждого конкретного дела применяется индивидуальный подход.
Например, в анализируемом определении во внимание, по ее словам, приняты следующие нюансы:
приобретение имущества за счет собственных средств супруги (доказательства были представлены в суде апелляционной инстанции);
сущность обязательства перед кредитором – на чьи нужды были направлены денежные средства (в данном случае ни должник, ни его супруга не получили никакой выгоды от заключения договора поручительства);
участие супруга в других схемах по выводу активов в преддверии банкротства должника.
По мнению Евгении Тихановой, старшего юриста Адвокатской конторы «Аснис и партнеры», данное определение Верховного Суда содержит сразу несколько важных для практики аспектов.
В первую очередь, Верховный Суд обоснованно отмечает, что приобретение имущества в период брака автоматически не ведет к признанию его общим. Суды не должны игнорировать доказательства приобретения имущества на личные денежные средства одного из супругов, поскольку супруги должников не несут негативные последствия от неисполнения личных обязательств другим супругом.
Данная позиция ВС РФ, по словам Евгении Тихановой, играет важную роль для практики, поскольку традиционно ближайшие родственники должника наиболее уязвимы при его банкротстве, к ним применяются многочисленные презумпции и повышенные стандарты доказывания, доказать отсутствие пороков сделки на практике бывает довольно сложно. Также Верховный Суд в очередной раз обращает внимание нижестоящих судов на вопрос, который неоднократно анализировался на уровне ВС, но все еще вызывает сложности: оспаривание сделок в банкротстве на основании общих норм ГК РФ.
Традиционно заявители используют комбинацию статей 10+168 ГК РФ как спасательный круг при невозможности использовать специальные нормы Закона о банкротстве в силу пропуска специальных сроков или выхода за период подозрительности. Верховный Суд вновь обращает внимание, что подобное недопустимо: применение общих норм в рамках споров о банкротстве возможно только при наличии таких пороков сделки, которые явно выходят за пределы специальных норм законодательства о банкротстве. Данный подход Верховного Суда, прежде всего, направлен на сохранение стабильности гражданского оборота.
Кроме прочего, довольно важна для практики и позиция ВС РФ о пределах полномочий суда кассационной инстанции: Верховный Суд еще раз отмечает, что кассационное обжалование является экстраординарным механизмом, суд кассационной инстанции не вправе вторгаться в компетенцию судов первой и апелляционной инстанций и переоценивать уже установленные ими фактические обстоятельства, резюмировала Евгения Тиханова.