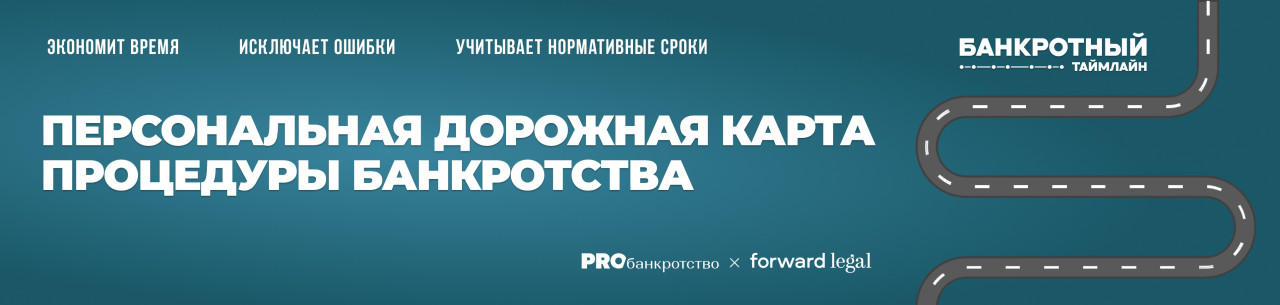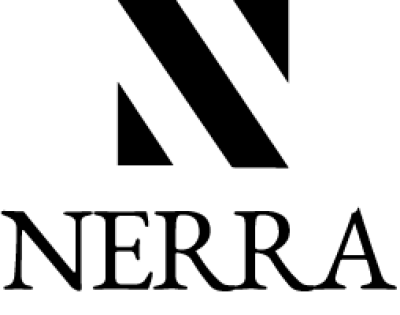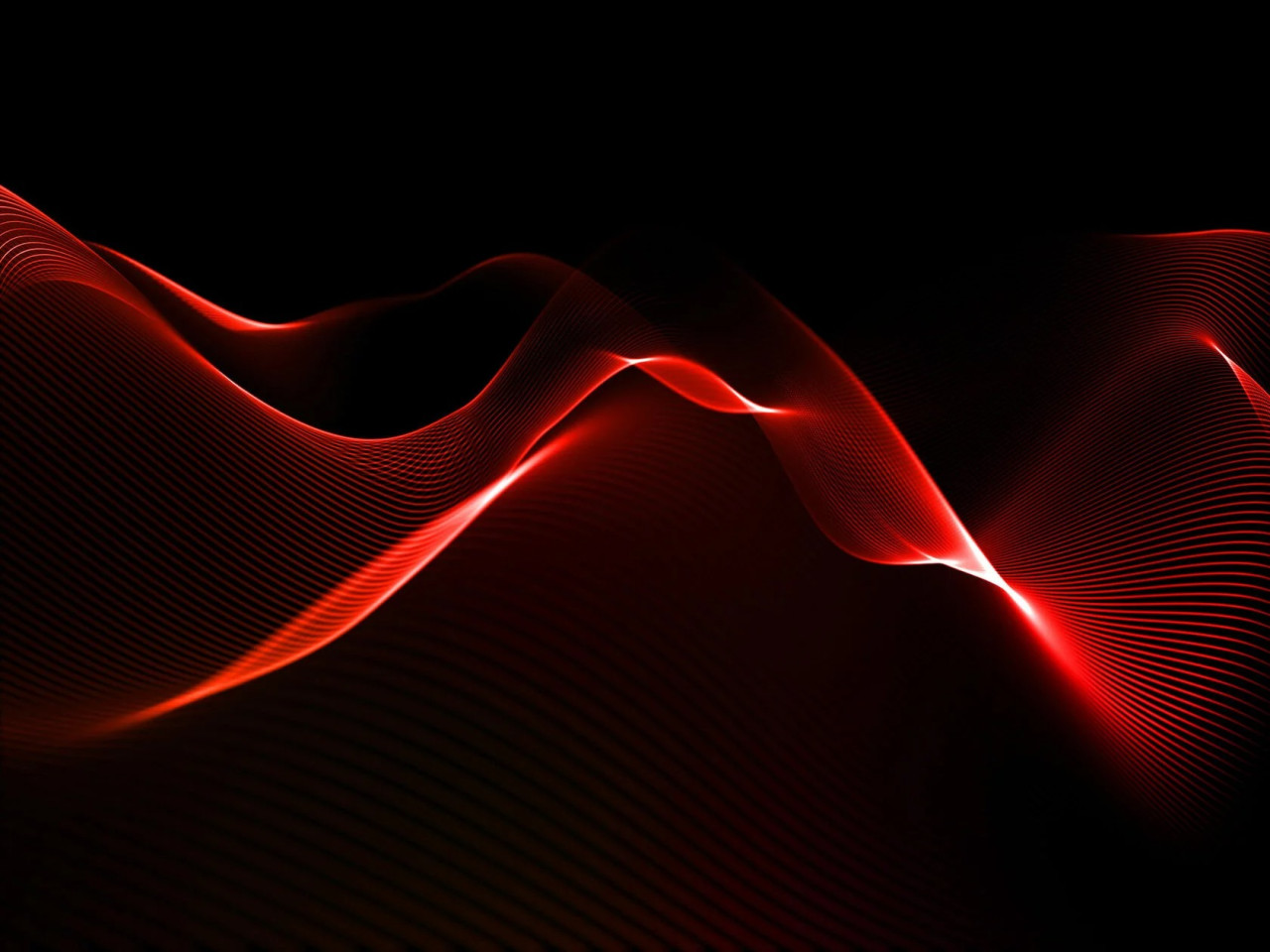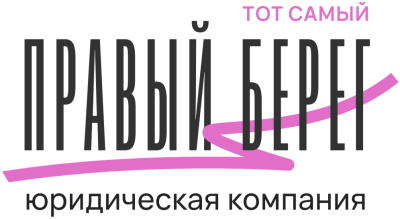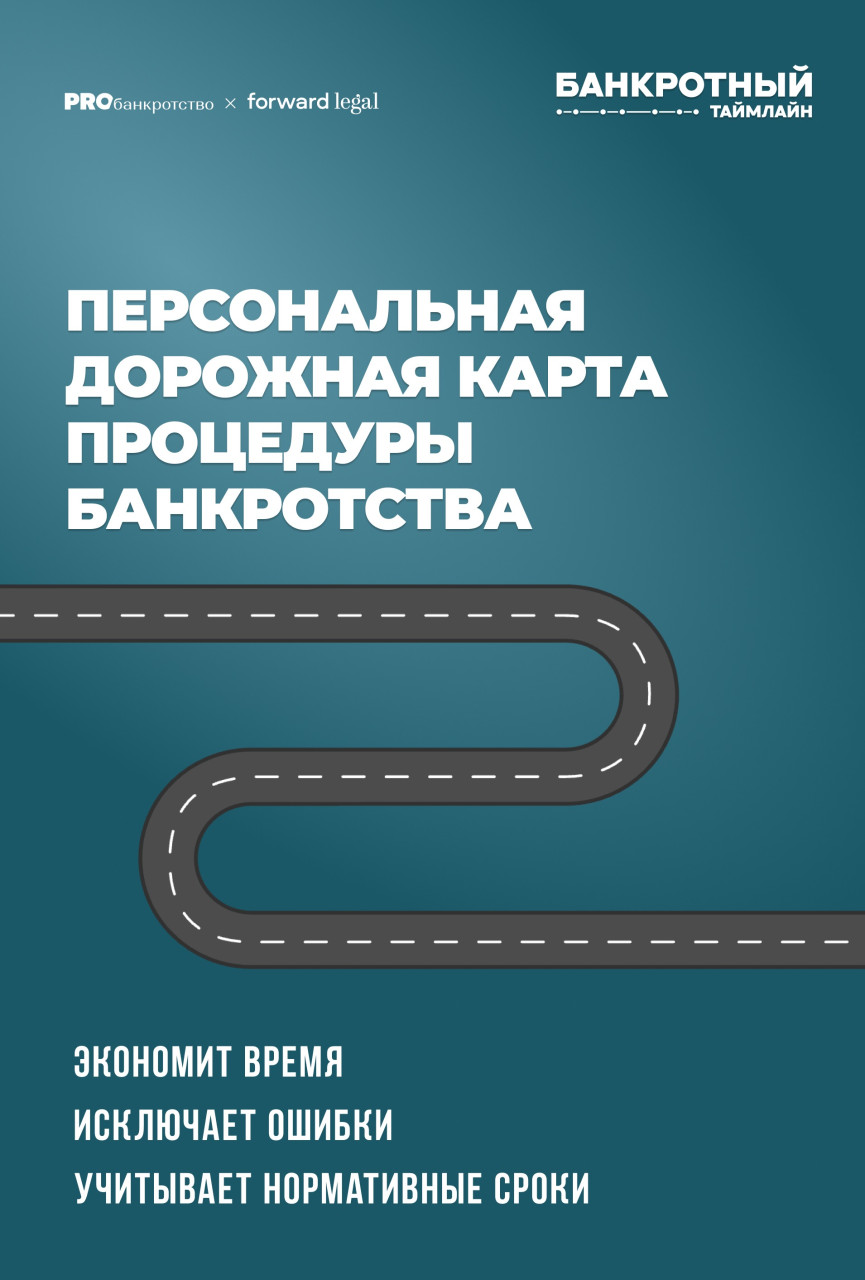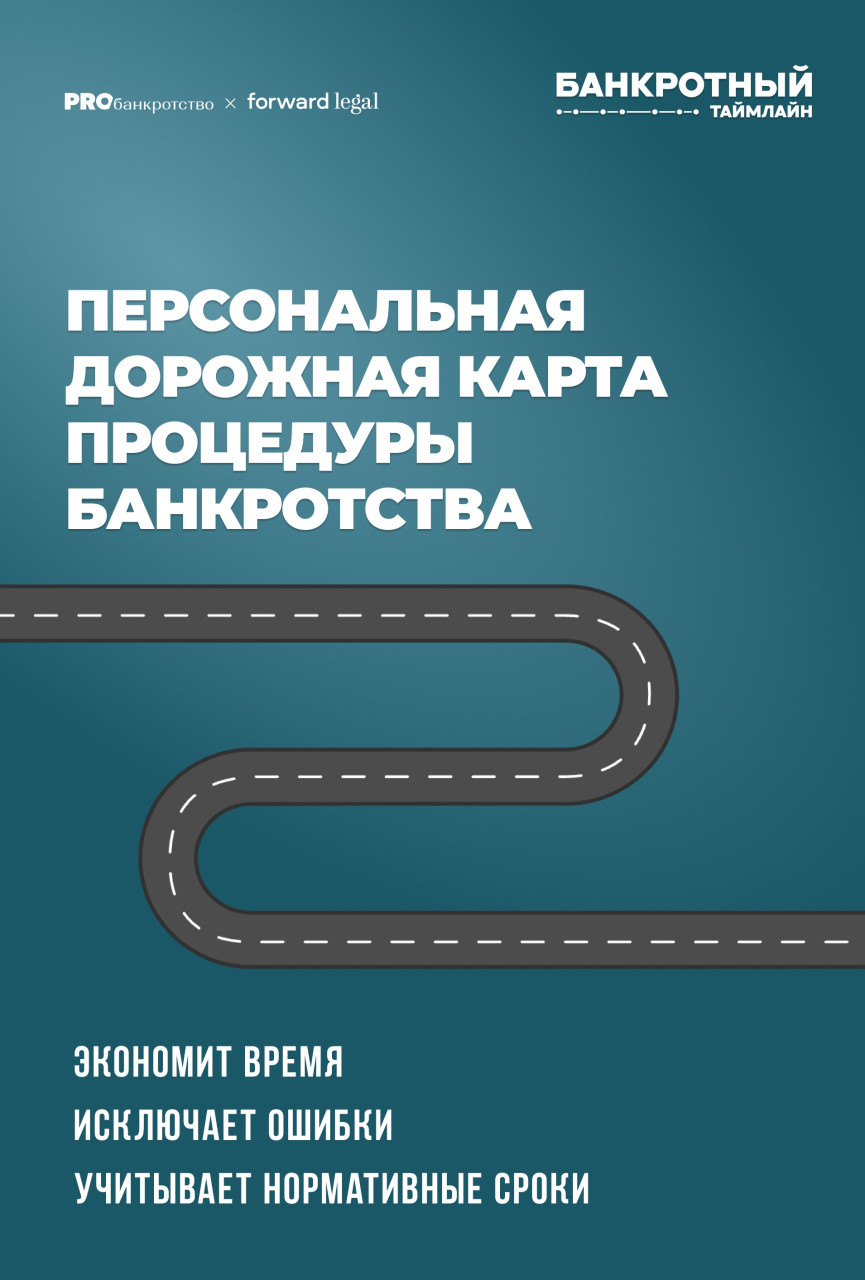Александр Ксенитов был признан банкротом в июле 2023 г. При этом в феврале 2022 г. он продал квартиру Антону Лопатину за 5,05 млн рублей. Финансовый управляющий Ксенитова потребовал признать сделку недействительной, так как считал, что оплата не производилась. Суды первой и апелляционной инстанций согласились с доводами финансового управляющего. Лопатин обратился в кассацию, утверждая, что представлял оригиналы расписок об оплате. Кассация отменила акты нижестоящих судов и направила спор на новое рассмотрение. Окружной суд указал, что суды не полностью исследовали доказательства оплаты по сделке и финансовой возможности покупателя (дело № А40-267388/22).
Фабула
В июле 2023 г. Александр Ксенитов был признан банкротом. При этом в феврале 2022 г. Ксенитов продал Антону Лопатину квартиру за 5,05 млн рублей. Финансовый управляющий Ксенитова Глустенков обратился в суд с требованием признать сделку недействительной, полагая, что оплата по договору не производилась и должник лишил кредиторов возможности получить удовлетворение требований за счет квартиры.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования финансового управляющего. Лопатин обратился в окружной суд, утверждая, что предоставлял суду оригиналы расписок, подтверждающих оплату, а также доказательства наличия у него финансовой возможности совершить сделку.
Что решили нижестоящие суды
Суды первой и апелляционной инстанций установили, что в материалы дела были представлены лишь копии расписок об оплате Лопатиным 5,05 млн рублей за квартиру. Оригиналы этих расписок суду не предоставлялись.
Суды пришли к выводу, что Лопатин не представил доказательств наличия у него накоплений в сумме 5 млн рублей на момент совершения сделки — в марте 2022 г. Руководствуясь этим, суды удовлетворили требования финансового управляющего Ксенитова о признании сделки недействительной.
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Московского округа не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций и отменил их акты.
Бремя доказывания недобросовестности Лопатина лежало на финансовом управляющем, который не приводил доводов об аффилированности сторон сделки. Факт оплаты по договору и получение Ксенитовым встречного исполнения сторонами не оспаривался.
Лопатин ссылался на предоставление судам оригиналов расписок об оплате. Также Лопатин представил справки 2-НДФЛ, подтверждающие его финансовое состояние на момент сделки, и расписку о получении денег от родителей на покупку квартиры.
Отсутствие доказательств расходования Ксенитовым полученных денег само по себе не доказывает недействительность сделки. Суд также учел довод Лопатина о том, что он не знал и не должен был знать о наличии у Ксенитова неисполненных обязательств перед кредиторами.
Даже несмотря на отсутствие оспаривания расписок, суды не оценили совокупность представленных доказательств, которые могли свидетельствовать о реальности сделки и финансовой возможности Лопатина оплатить квартиру.
Доводы Лопатина сводились к тому, что при продаже квартиры имущественная масса Ксенитова получила равноценное встречное предоставление.
Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил акты нижестоящих судов, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры между Ксенитовым и Лопатиным. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Почему это важно
Данное дело интересно тем, что расчеты по оспариваемой сделке осуществлялись наличными под расписку, к которым у судов в последнее время (часто – небезосновательно) сформировалось скептическое отношение, отметил Дмитрий Якушев, советник, адвокат Адвокатского бюро «Андрей Городисский и Партнеры».
Суд кассационной инстанции напоминает о необходимости всестороннего исследования обстоятельств совершения сделки и, самое главное, установления наличия (отсутствия) финансовой состоятельности для приобретения актива. Эта часть нижестоящими судами оставлена без внимания, что не соотносится со сложившейся судебной практикой. В данном случае ответчик доказал источник происхождения денежных средств. Если условия договора предполагали наличный расчет, то при доказанности финансовой возможности совершить сделку расписка является надлежащим доказательством такого расчета, особенно учитывая, что суду на обозрение представлен ее оригинал.
Также отдельного внимания, по его словам, заслуживает довод ответчика о неосведомленности о долгах продавца. Аффилированность, судя по всему, отсутствует, что означает сохранение бремени доказывания недобросовестности ответчика на стороне заявителя. Возложение на ответчика повышенного стандарта доказывания своей добросовестности в этой ситуации излишне.
Ключевая ошибка в споре возникла из-за отождествелния финансовым управляющим любых подозрительных действий с аффилированностью, указал Вячеслав Голенев, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Адвокаты: Голенев и Партнеры».
Однако о последнем факторе не заявлялось, а суды это проигнорировали, что влияет на бремя доказывания по спору. Перераспределение бремени в таком случае не допускалось, что было выявлено судом округа. Поэтому с отменой судебных актов следует согласиться.
Данил Бухарин, адвокат, советник Адвокатского бюро Forward Legal, отметил, что в рамках дела о банкротстве суд кассационной инстанции отменил акты нижестоящих судов, указав, что они неправомерно возложили на покупателя обязанность доказывать реальность расчетов по сделке. Ответчик представил типовой для подобных ситуаций набор доказательств: справки 2-НДФЛ, подтверждение получения займа от родителей с доказательствами их доходов.
Это обычная практика при покупке недвижимости за наличные, особенно когда сумма сделки сравнительно небольшая. Суд отметил, что управляющий не ссылался на аффилированность сторон, а значит, обязанность доказывания недобросовестности сделки лежала на нем указал он.
Доводы о том, что должник не раскрыл, как распорядился полученными деньгами, не могут быть признаны достаточными для признания сделки мнимой, особенно если достоверность доказательств ответчика не оспаривалась и заявлений о фальсификации не поступало. Вывод кассационного суда еще раз подчеркивает: при оспаривании сделок в рамках банкротства важно соблюдать баланс интересов и правовую определенность, не перекладывая чрезмерную доказательственную нагрузку на добросовестных контрагентов.
Повышенный стандарт доказывания в спорах о недействительности сделок, требующий представления ответчиком ясных и убедительных доказательств, стал уже общим правилом, хотя юридическое основание этого правила вряд ли может быть обнаружено, подчеркнул Даниил Анисимов, старший юрист Адвокатского бюро «S&K Вертикаль».
Подавляющая практика, пояснил он, обосновывает применение этого стандарта тем, что спор отягощен банкротным элементом, особенно часто эту позицию можно встретить в спорах по экстраординарному обжалованию судебных актов (п. 17 Обзора практики № 2 за 2018 г.). Но все же к оспариванию сделок эта позиция в целом неприменима.
В спорах о включении требований в реестр и в являющихся логическим продолжением последних спорах по экстраординарному обжалованию применение повышенного стандарта доказывания продиктовано Законом о банкротстве, что подробно разъяснено, например, в определении Верховного Суда РФ от 20 сентября 2018 г. № 305-ЭС18-6622. Равным образом повышенный стандарт доказывания может применяться в спорах о мнимости сделки, поскольку «стороны мнимой сделки стремятся правильно оформить документы» (см., например, определение Верховного Суда РФ от 13 июля 2018 г. № 308-ЭС18-2197), а также в спорах, где ответчик является аффилированным с должником лицом, по тем же причинам (п. 1 Обзора практики № 7 за 2020 г.), отметил Даниил Анисимов.
Анализ приведенных оснований показывает, что прямо закон нигде не ссылается на повышенный стандарт доказывания: стандарт продиктован гипотезой применяемой нормы материального права. Поэтому за «стандартом доказывания» находится «распределение бремени доказывания» в соответствии с гипотезой нормы права. Предусмотрено ли специальное распределение бремени доказывания в спорах о недействительности сделки? Да, оно выражено установлением ряда опровержимых презумпций, которые требуют от ответчика более высокой процессуальной активности. Но вне этих презумпций никакого «повышенного стандарта доказывания» при прочих равных нет. Поэтому Арбитражный суд Московского округа безусловно прав: ответчик по спору о недействительности сделки не обязан устранять все сомнения, какими бы убедительными они не были.