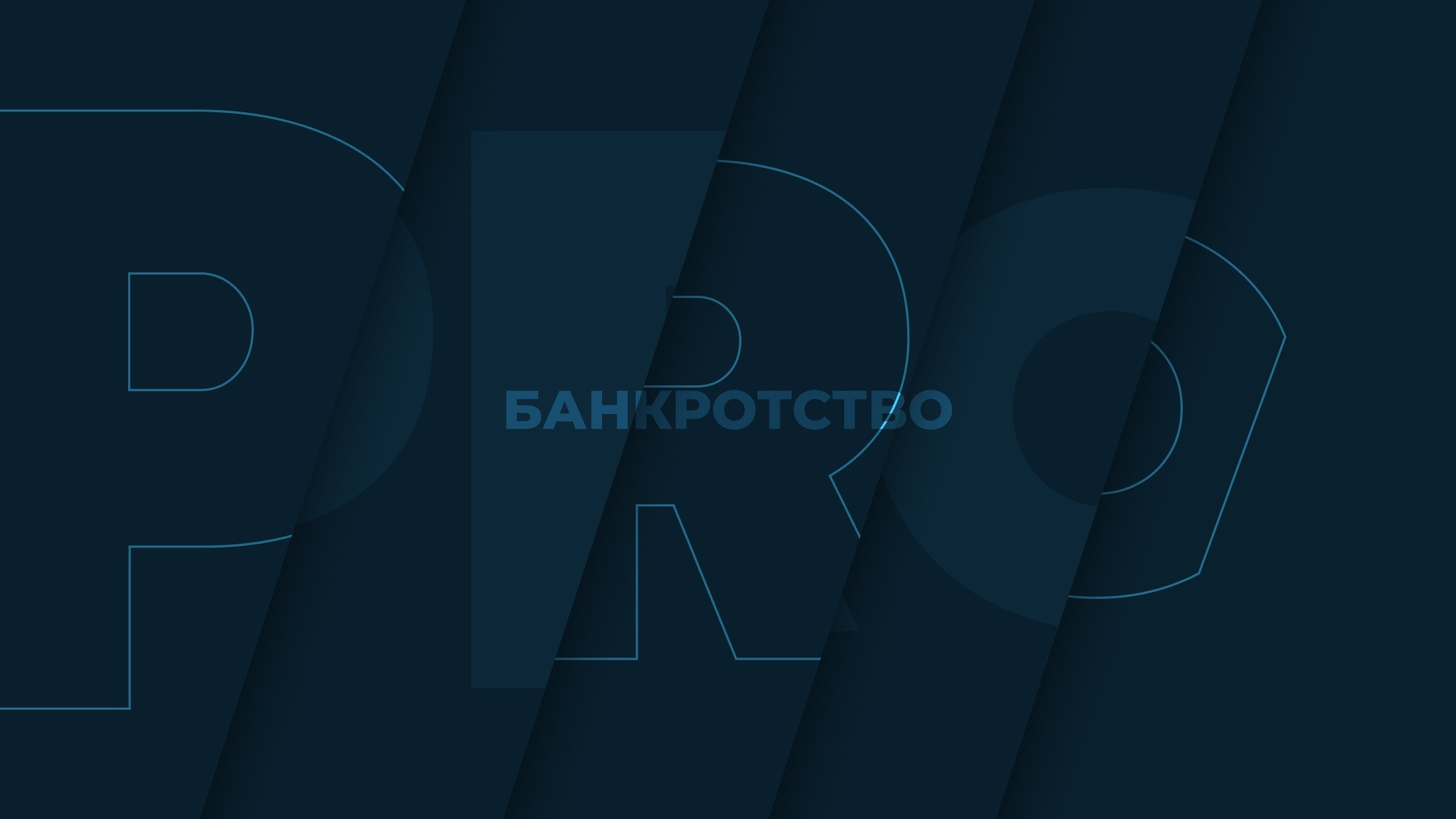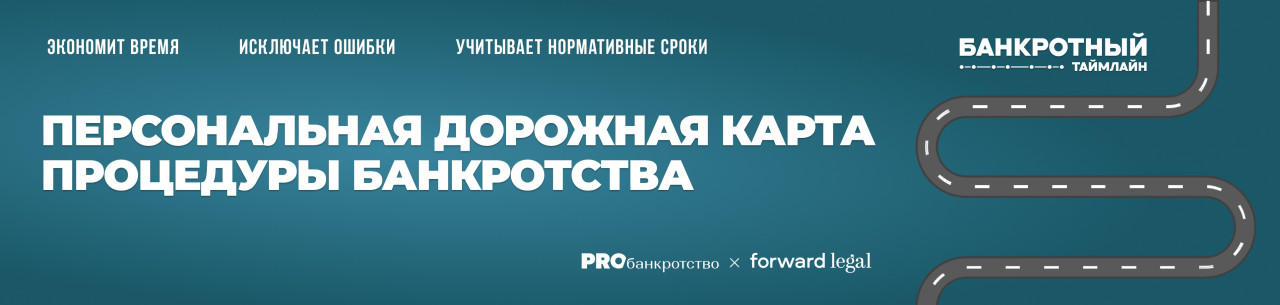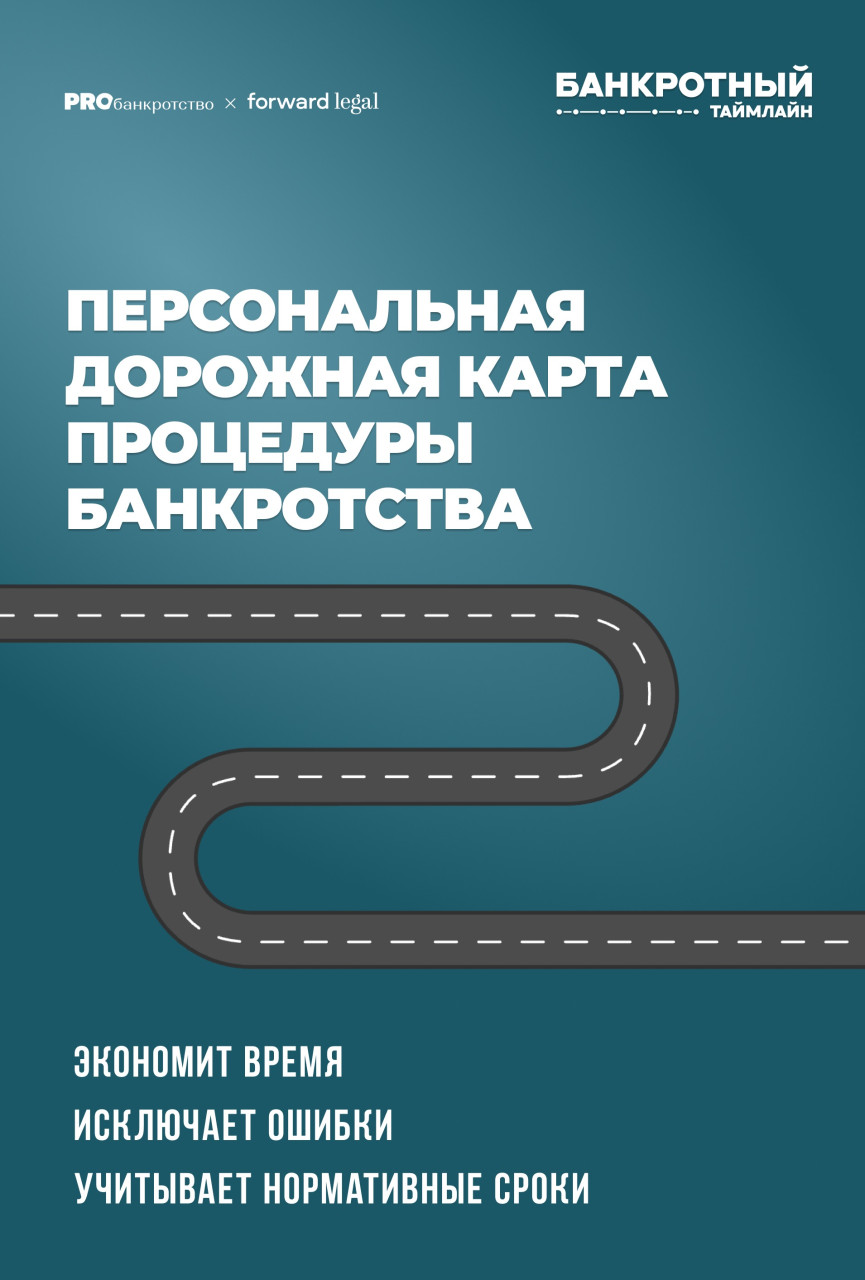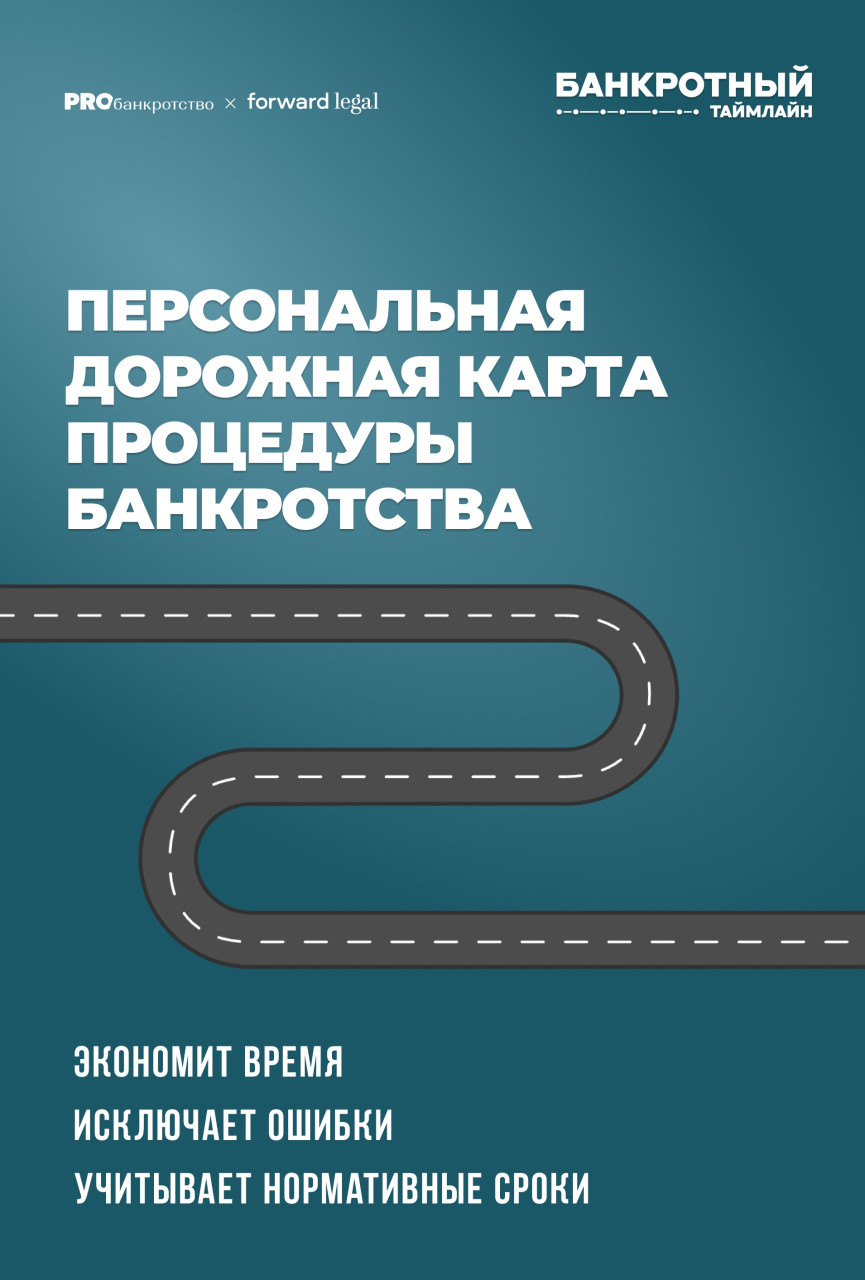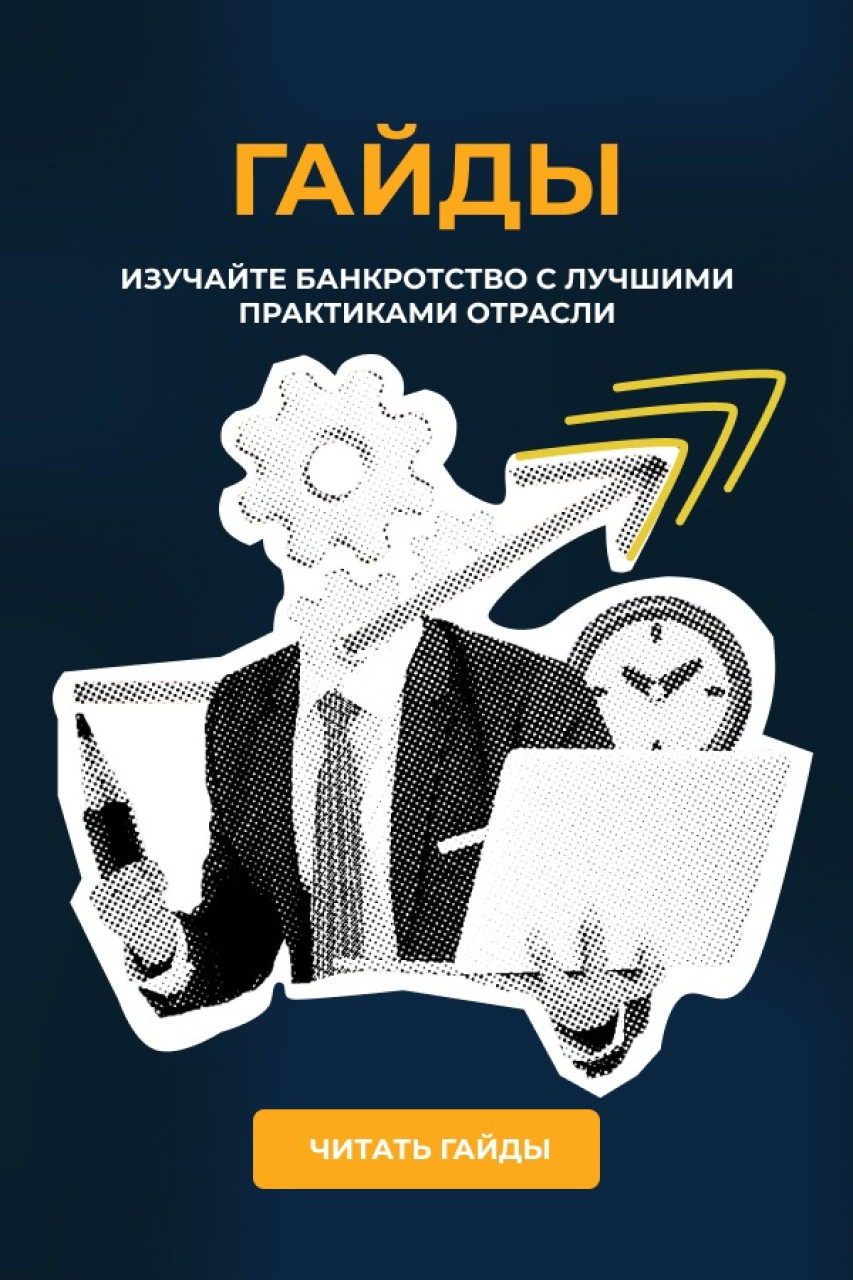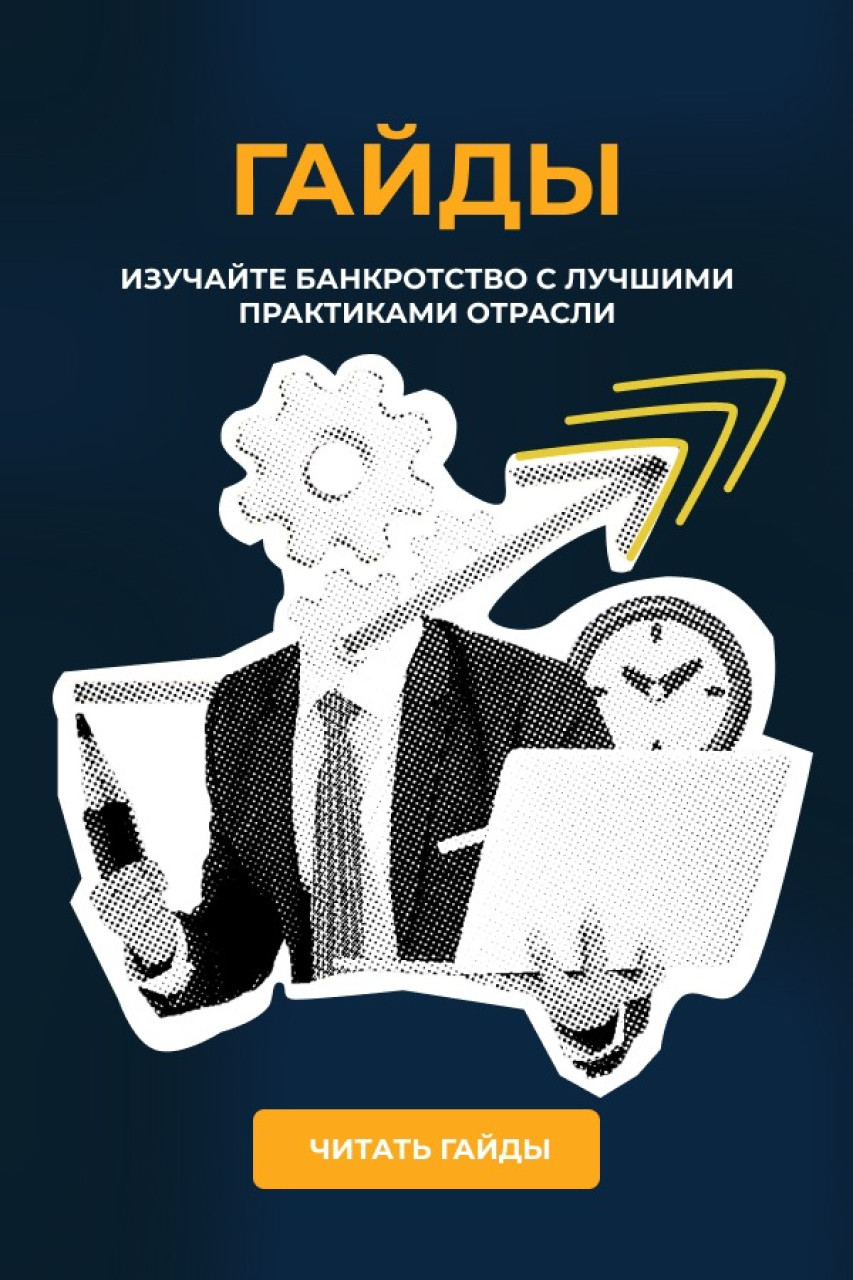В рамках дела о банкротстве Серегина В. В. (дело № А40-144662/2020) финансовый управляющий должника на основании п. 2 ст. 61.2 закона о банкротстве и ст. 10, 168 ГК РФ оспорил сделки по перечислению должником в пользу бывшей супруги Серегиной С. Л. денежных средств за период с 26.10.2017 по 09.01.2020 в общем размере 17 864 219,52 рубля. Портал PROбанкротство писал об этом кейсе.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2021, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2022 и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 17.06.2022, заявление финансового управляющего удовлетворено, признаны недействительными сделки Серегина В. В. в пользу Серегиной С. Л. по перечислению денежных средств в общем размере 17 864 219,52 рубля, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Серегиной С. Л. в конкурсную массу Серегина В. В. 17 864 219,52 рубля.
Фаворит Андрея Егорова — Определение ВС РФ № 305-ЭС22-10847 от 28.02.2023 по делу № А40-144662/2020.
Важный вывод по этому делу, на котором акцентирует внимание Андрей Егоров: «Взыскание с Серегиной С. Л. всей полученной суммы в конкурсную массу противоречит и смыслу процедур банкротства, поскольку эта сумма превышает совокупную сумму установленных в реестре требований к должнику». Казалось бы, ничего особенного. Про это же написано в п. 29.4 Пленума ВАС РФ № 63 (2010).
Но все-таки важно это подчеркивать. И я очень жду, когда такое же решение будет применено к какому-то неденежному объекту (например, в ущерб кредиторам будет продана вещь стоимостью 10 млн, а в РТК будет требований всего на 3 млн). В данном случае суд, конечно, должен взыскать с ответчика 3 млн, а не уничтожать сделку в целом. В этом и будет заключаться смысл особого конкурсного опровержения юридических актов должника. С этой идеей я продолжаю стучаться во все юридические двери. А ведь, исходя из принципа равенства, решение должно быть одинаковым. Как в случае, когда кредитор с преимуществом получил 10 млн (при РТК на 3 млн), так и в случае, когда он купил существенно дешевле вещь стоимостью 10 млн (при таком же размере РТК — 3 млн). Поэтому любое дело в эту тему — для меня архиважно.

Верховный суд рассмотрел вопрос о праве физического лица, которое приобрело права требования у банка, инициировать банкротство должника без судебного акта о взыскании задолженности. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 06.02.2023 № 305-ЭС22-20916 по делу № А41-10397/2022
Верховный суд подтвердил, что судебного акта в данной ситуации не требуется. Такая правовая позиция ранее уже была закреплена в Обзоре ВС РФ № 1 от 01.06.2022.
Дополнительно Верховный суд отметил, что право на упрощенное возбуждение дел о банкротстве производно от специальной правоспособности российских кредитных организаций, подтверждаемой соответствующей лицензией ЦБ РФ: критерием, допускающим возбуждение дела о банкротстве подобным упрощенным способом, выступает реализуемая кредитной организацией деятельность по осуществлению банковских операций на основании специального разрешения (лицензии) Банка России (абз. первый ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Портал PROбанкротство писал об этом кейсе подробно.
В этой связи возникает вопрос: обладают ли иностранные банки правом на льготный порядок возбуждения дел о банкротстве (без судебных актов)?
До недавнего времени в ряде случаев суды признавали за иностранными банками, как правило, имеющими подразделения в России, право банкротить российских должников без судебных актов о взыскании задолженности (см. например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15 февраля 2019 года по делу № А40-191346/2016, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.11.2020 № Ф05-18318/2020 по делу № А40-59877/2020, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.08.2021 № Ф07-7172/2021 по делу № А56-9086/2019 и др. судебные акты по делам № А56-16640/2019; № А26-291/2019; № А56-68027/2019; № А40-125301/2015; № А40-131845/2015; № А41-15150/2015; № А56-69586/2019; № А56-9086/2019; № А56-69585/2019; № А09-13046/2017; № А40-293623/2019; № А40-176843/17, № А40-154522/17; № А40-100251/16; № А40-1253/17). Вся эта судебная практика сформирована до 24 февраля 2022 года.
В других случаях суды, напротив, отказывают во введении наблюдения иностранным банкам (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 2 ноября 2020 года по делу № А56-110498/2019, оставленное в силе Определением ВС РФ от 3 февраля 2021 года № 307-ЭС20-22388; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24 августа 2021 года по делу № А40-271609/2019).
Последний подход судов понятен, рассуждает Антон Александров:
требования иностранных банков, как правило, подчинены иностранному праву, установление которого само по себе значительно усложняет процесс;
такие требования основываются на доказательствах, которые нельзя назвать «стандартными» для российской судебной системы;
банковское регулирование везде разное: где-то деятельность по кредитованию компаний лицензируется, а где-то лицензируются только отдельные виды кредитования (например, ипотечное). Далеко не факт, что иностранный регулятор, так же как ЦБ РФ, осуществляет надзор за иностранными банками в части корпоративного кредитования, что гарантирует «стандартность» требований из кредитных договоров.
После фактически полного запрета деятельности российских банков в отдельных странах, проблема различных подходов в судебной практике приобретает особую актуальность. Возникает закономерный вопрос о том, должна ли российская правовая система предоставлять льготный порядок возбуждения дел о банкротстве иностранным банкам, особенно зарегистрированным в странах, которые Правительством РФ обозначены как недружественные? Будем надеяться, что в ближайшее время Верховный суд РФ сформирует четкую позицию по этому поводу.

Оценочное сообщество две недели активно обсуждает опубликованный на сайте Минфина перечень оценочных организаций, рекомендованных для проведения оценки рыночной стоимости активов уходящих из России компаний. Перечень был сформирован в рамках деятельности подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с резидентами недружественных стран. В этом перечне 42 организации, и, соответственно, в него не попали тысячи оценочных компаний. Инициативная группа из более чем 20 оценочных компаний из разных регионов России, которую возглавила Ирина Вишневская, управляющий партнер консалтинговой группы «Ирвикон», намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу РФ с жалобой на Минфин РФ.
Сегодня стало известно, что Минпромторг отказывает в приеме отчетов об оценке компаний не из списка Минфина даже при наличии подтверждения отчета экспертизой СРО.
Примечательно то, что отчет об оценке вообще не входит в перечень обязательных документов, предоставляемых на Правительственную комиссию. Это требование — на словах. На словах с января 2023 года начали рекомендовать предоставлять к отчетам об оценке — подтверждение (положительную экспертизу оценочного СРО), на словах — к отчетам об оценке выписку из СРО на оценщиков, подписавших отчет. Какие еще неписаные законы выдумают чиновники? И когда же наконец кто-то обратит внимание на этот беспредел, потому что непонятно, в чьих интересах сформирован этот во всех смыслах сомнительный и по факту незаконный список «рекомендованных» компаний Минфина?

В апреле 2022 года Арбитражный суд Челябинской области первым из российских судов признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении зарегистрированного на острове Невис в Карибском море нерезидента России (компании Pandora consulting LC). В реестр кредиторов была включена задолженность перед заявителем Виталием Нахабиным в размере 1,3 млн рублей. Нахабин подтвердил наличии у нерезидента перед ним долгов ссылками на вступившие в законную силу определения Арбитражного суда Пермского края от 22.10.2018, 19.02.2019 по делу № А50-6932/2017 и от 15.04.2021 по делу № А50-19739/2017, которыми с Pandora consulting LC в пользу заявителя были взысканы деньги в счет возмещения судебных расходов по иным делам о банкротстве.
21 июля законность открытия в России процедуры банкротства в отношении нерезидента Pandora consulting LC подтвердил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. В третью очередь реестра кредиторов «Пандора консалтинг ЛС» уже также включено еще одно требование Виталия Нахабина в размере 132 тыс. рублей и задолженность перед Сергеем Долговым в размере 735 тыс. рублей. Портал PROбанкротство следил за этим делом.
Судья Верховного суда РФ С. Самуйлов 23 марта 2023 года отказался передавать в Судебную коллегию по экономическим спорам жалобу Игоря Гречаника на законность введения Арбитражным судом Челябинской области процедуры банкротства в отношении зарегистрированной на острове Невис компании Pandora consulting LC.
Важнейшим судебным актом недели считаю отказ Верховного суда РФ передавать на рассмотрение коллегии кассационную жалобу на определение Арбитражного суда Челябинской области о признании банкротом компании Pandora consulting LC (дело № А76-31539/2021). Это означает, что впервые в российской арбитражной практике появился прецедент, прошедший все судебные инстанции, о введении процедуры банкротства в отношении имущественной массы иностранных компаний. Определение Арбитражного суда Челябинской области является прорывным, поскольку до этого российский правопорядок последовательно отрицал возможность банкротства иностранных компаний по правилам российского закона о банкротстве. В данный момент наша команда участвует в деле с похожими обстоятельствами в г. Москве, поэтому мы уделяли пристальное внимание развитию этого кейса.
Подобная концепция введения процедуры банкротства в отношении конкурсной массы иностранной компании, продолжает Дмитрий Якушев, была обоснована тем, что должник в значительной степени связан именно с российской юрисдикцией и отечественными кредиторами, нежели с местом своей инкорпорации. Компания контролировалась российскими гражданами, была поставлена на налоговый учет в РФ, имела счета в российских банках и др. Эти обстоятельства вкупе с процедурой ликвидации по месту регистрации из-за неуплаты налогов позволили суду прийти к выводу о том, что центром основных интересов компании была именно российская юрисдикция. Очевидно, что этот прецедент возможно будет применить не к каждой иностранной компании, но полагаю, что это дело может дать толчок к развитию трансграничной несостоятельности в российском законодательстве и судебной практике.

ООО «Сигма», супруги Федоровы и руководитель ООО «Сигма» Григорий Дубовик в 2015–2017 годах заключили серию взаимосвязанных сделок. В рамках банкротства ООО «Сигма» суды признали данные сделки недействительными. Однако апелляционный и окружной суды отказались применять последствия недействительности сделок в виде взыскания с супругов Федоровых в пользу ООО «Сигма» 10,4 млн рублей. Причина — Федоровы не смогут восстановить свои права требования к умершему Дубовику, не оставившему наследников.
Суд апелляционной инстанции прекратил производство по заявлению арбитражного управляющего в части применения последствий недействительности сделки по перечислению денежных средств должником в пользу ответчика — руководителя должника в связи со смертью ответчика и отсутствием у него наследников (кассация поддержала).
20.03.2023 в ВС РФ была рассмотрена жалоба арбитражного управляющего — постановления суда кассационной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение. Подробнее об этом кейсе можно прочитать в материале PROбанкротство.
На сегодняшний день судебный акт ВС РФ не опубликован, однако очевидно, что РФ опроверг позицию нижестоящих судов о невозможности возврата денежных средств в конкурсную массу должника в случае смерти ответчика. В ином подходе происходит безусловное нарушение прав и интересов кредиторов при существующем институте банкротства умершего.