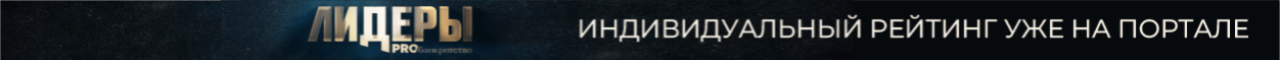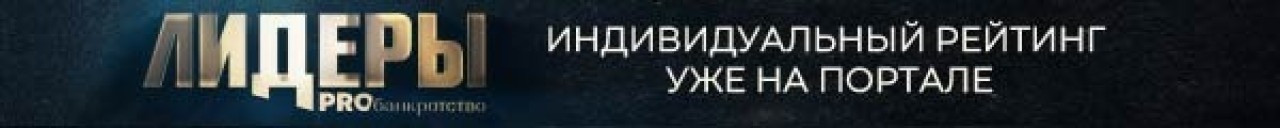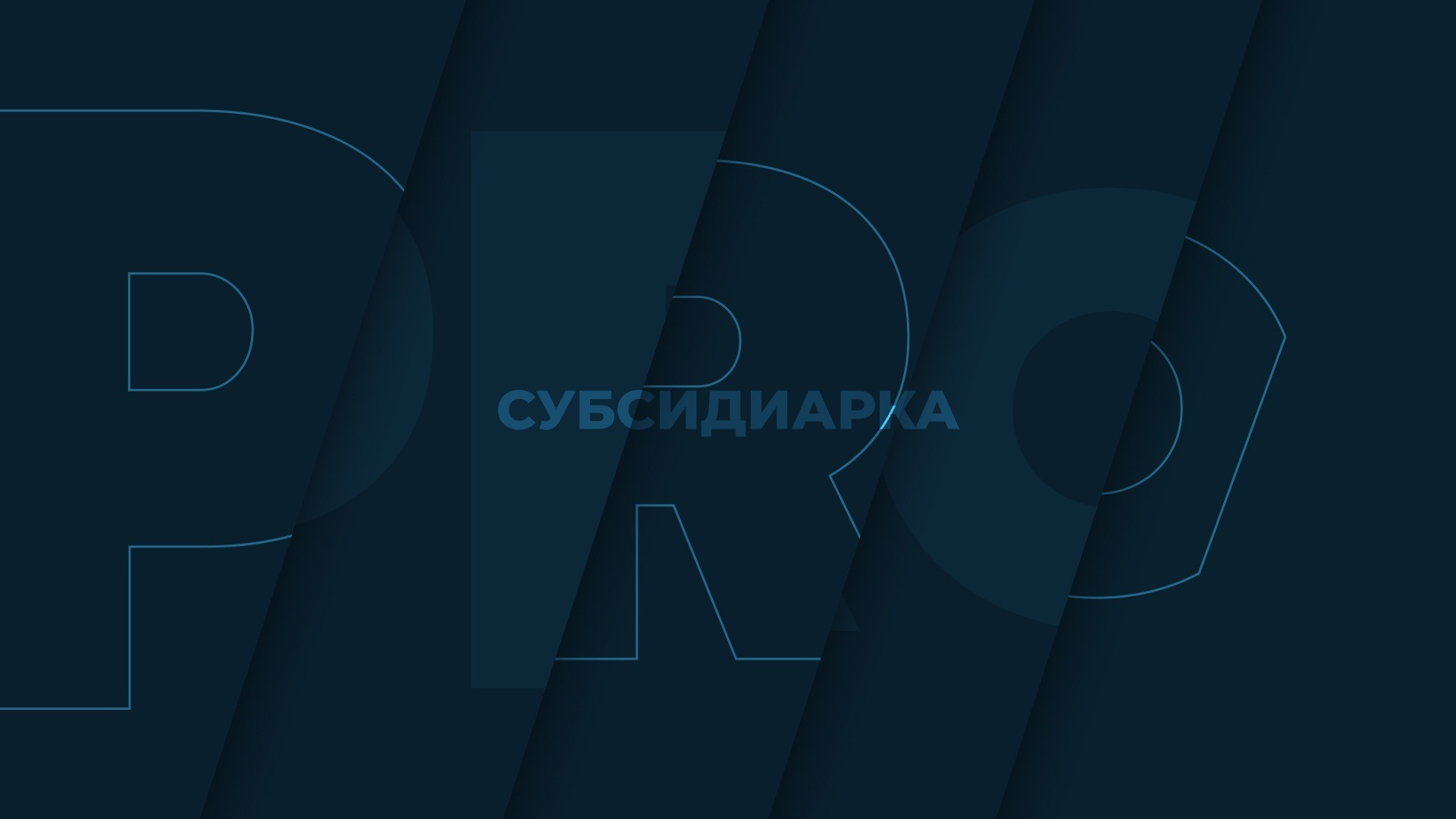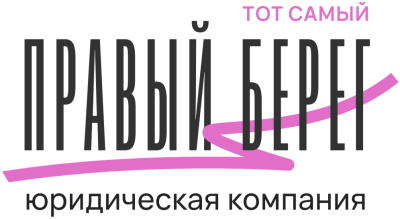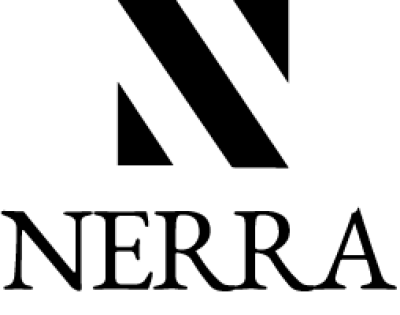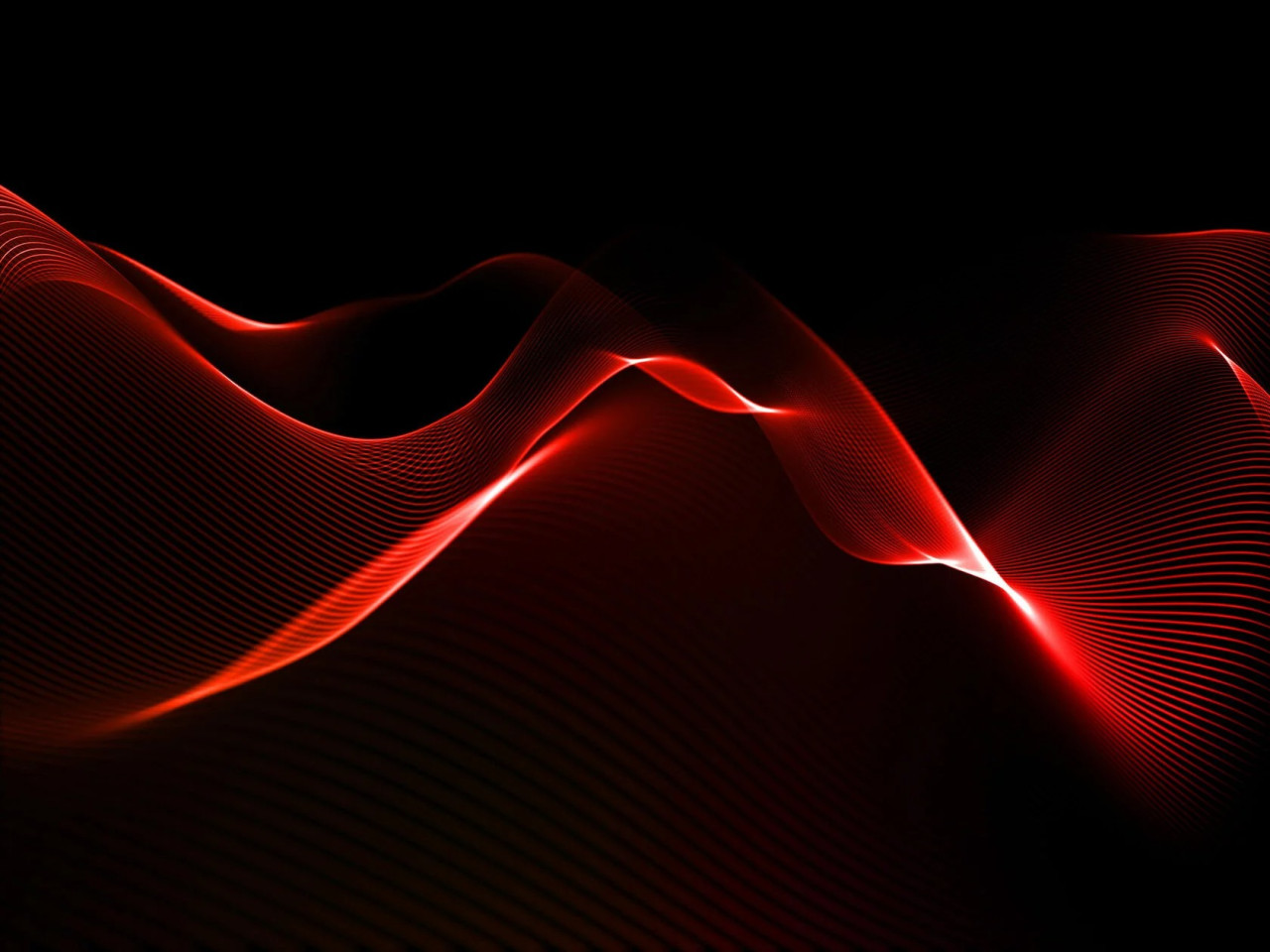Елена Юренкова предоставила заем в размере 895 тыс. рублей ООО «СПУТНИК-21», в котором владела 50% доли. Общество не вернуло долг и было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. Юренкова попыталась привлечь второго участника общества Дарью Коротовских к субсидиарной ответственности по долгам ООО «СПУТНИК-21» в размере 1 млн рублей. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав, что Юренкова сама являлась контролирующим лицом должника, не доказала вину Коротовских в доведении общества до банкротства и не проявила должной осмотрительности. Юренкова обжаловала судебные акты в Арбитражный суд Московского округа, который отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение, указав на необходимость выравнивания неравенства процессуальных возможностей кредитора и контролирующего лица, переложения бремени доказывания на ответчика и более полного исследования обстоятельств дела (№ А40-156163/2024).
Фабула
Елена Юренкова предоставила заем в размере 895 тыс. рублей ООО «СПУТНИК-21», в котором владела 50% доли, вторым участником являлась Дарья Коротовских. Срок возврата займа наступил 29 декабря 2020 г., но общество не вернуло долг.
В декабре 2023 г. ООО «СПУТНИК-21» было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. Юренкова обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о привлечении Коротовских к субсидиарной ответственности по долгам ООО «СПУТНИК-21» в размере 1 млн рублей.
Суд первой инстанции, с которым согласилась апелляция, отказал в иске. Юренкова подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа, рассказал ТГ-канал «Субсидиарная ответственность».
Что решили нижестоящие суды
Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что Юренкова не доказала факт недобросовестного поведения Коротовских, наличие умысла либо грубой неосторожности, повлекших невозможность исполнения обязательств перед кредитором. Между исключением ООО «СПУТНИК-21» из ЕГРЮЛ и убытками Юренковой не усматривается прямой причинно-следственной связи.
Суды также указали, что Юренкова сама являлась контролирующим лицом должника, владея 50% доли, но проявила бездействие — не заявила в регистрирующий орган о наличии задолженности перед ней и не обращалась своевременно в суд о взыскании долга. Внесенные по договору займа средства фактически использовались как оборотные средства внутри группы аффилированных лиц, о чем Юренкова не могла не знать.
Что решил окружной суд
Арбитражный суд Московского округа не согласился с нижестоящими инстанциями. Привлечение контролирующего лица к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом, который не может применяться к общему стандарту доказывания. Истец должен представить доказательства наличия убытков, недобросовестности/неразумности поведения контролирующего лица и причинно-следственной связи, но с учетом неравенства процессуальных возможностей кредитора и контролирующего лица.
Кассация указала, что предъявление к кредитору требования доказать обусловленность причиненного вреда поведением контролирующих лиц влечет неравенство процессуальных возможностей, так как кредитор обычно не имеет доступа к документам о деятельности должника. Если кредитор подтвердил долг судебным актом и представил доказательства исключения должника из реестра, суд должен оценить возможности кредитора по доступу к информации.
При отказе контролирующего лица от дачи пояснений или их явной неполноте обязанность доказать отсутствие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности возлагается на привлекаемое к ответственности лицо. Оно должно доказать, что действовало добросовестно и приняло все меры для погашения долгов перед кредиторами.
Окружной суд отметил, что Юренкова предпринимала меры для взыскания задолженности с ООО «СПУТНИК-21», подтвержденные решениями судов. Она подавала возражения в регистрирующий орган против исключения общества из ЕГРЮЛ. На момент исключения Юренкова уже вышла из состава участников, но оставалась кредитором. По ее доводам, выход был вынужденным из-за недобросовестного поведения Коротовских. Однако суды не дали оценку этим доводам.
Кассация указала, что суды необоснованно отклонили ходатайство Юренковой об истребовании сведений о движении средств по счетам ООО «СПУТНИК-21», чтобы установить возможность расчетов с кредитором. Не выяснялось, совершала ли Коротовских действия по отчуждению имущества и выводу активов должника в ущерб кредитору.
В ходе рассмотрения спора Коротовских не представила мотивированных пояснений о деятельности общества, причинах неисполнения решения суда о взыскании долга. Выводы судов об отсутствии оснований для удовлетворения иска сделаны без учета специфики спорных отношений, при неправильном распределении бремени доказывания.
Итог
Арбитражный суд Московского округа отменил решение Арбитражного суда города Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Дело о привлечении Дарьи Коротовских к субсидиарной ответственности по долгам ООО «СПУТНИК-21» в размере 1 млн рублей было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Почему это важно
Позиция окружного суда, несомненно, является важной для практики, учитывая то, что инициатором привлечения к субсидиарной ответственности являлось другое контролирующее лицо – бывший участник должника, отметила Юлия Литовцева, партнер Юридической компании «Пепеляев Групп».
Наиболее сложным, по ее словам, вопросом в подобной ситуации является правильное распределение бремени доказывания, и кассационный суд дал подробную пошаговую инструкцию о том, как это должно осуществляться в таком неординарном случае.
Первый принципиальный вывод – наличие у заявителя статуса контролирующего лица само по себе не является основанием для отказа в защите его притязаний как кредитора.
Второй – оценка обоснованности требований такого заявителя к другому контролирующему лицу должна определяться: правовой природой требований истца (не основаны ли они на корпоративном финансировании или корпоративных обязательствах); принятием заявителем разумных мер для защиты своих интересов как кредитора и как участника должника (относительно взыскания задолженности, получения доступа к информации о деятельности должника, воспрепятствования исключению компании из ЕГРЮЛ ввиду наличия задолженности); наличием у заявителя реальной возможности влиять на деятельность общества (в данном случае хотя истец являлся участником с долей 50%, он не занимал каких-либо руководящих должностей в обществе); оценкой добросовестности ответчика по раскрытию обстоятельств хозяйственной деятельности должника и причин, повлекших неисполнение обязательств перед кредитором.
Третий важный вывод: самих по себе непогашения «просуженного» долга, исключения юридического лица из ЕГРЮЛ, наличия в реестре недостоверных сведений недостаточно для привлечения к субсидиарной ответственности. Более того, данные обстоятельства не позволяют применить презумпцию такой ответственности даже при исключении организации из ЕГРЮЛ по причинам непредставления отчетности или неосуществления банковских операций.
Четвертый вывод – суд вправе исходить из предположения о том, что контролирующее лицо виновно в неисполнении обязательств перед кредитором, если установит отказ или уклонение такого лица от представления данных о деятельности должника.
Кассационный суд фактически установил формальный подход нижестоящих судов к квалификации обстоятельств и правоотношений, ведь они «не заметили» ни подтверждения долга именно как обязательства из займа решением суда, ни принятия заявителем мер для предотвращения исключения должника из ЕГРЮЛ, ни неисполнения ответчиком решения суда о понуждении к предоставлению информации о деятельности компании.
Арбитражный суд Московского округа поправил суды нижестоящих инстанций, избравших формальный подход к рассмотрению требования о привлечении лица, бывшего генеральным директором исключенного из ЕГРЮЛ общества, к субсидиарной ответственности, указал Ислам Гаджиев, партнер Финансово-правовой группы компаний Tenzor Consulting Group.
Суды, как видно, остановились на сухой констатации того факта, что истец сама являлась участником общества с долей 50%, входила с ответчиком в одну группу лиц, и из этого презюмировали осведомленность истца о реальной природе возникших правоотношений и соответствующих рисках. Между тем суд кассационной инстанции внимательно изучил материалы дела и выяснил, что судами не было дано соответствующей оценки доводам истца об отсутствии по вине ответчика доступа к сведениям о финансово-хозяйственной деятельности должника, при этом сам ответчик каких-либо доказательств и пояснений в свою пользу не приводил. Более того, судом первой инстанции было немотивированно отклонено ходатайство об истребовании данных сведений. При подобных обстоятельствах постановление суда округа представляется обоснованным и соответствующим общей тенденции по борьбе с формальным подходом при рассмотрении дел. Также видится важным с точки зрения практики привлечения к субсидиарной ответственности то, что судом в очередной раз указано на необходимость «выравнивания неравенства в возможностях доказывания, которыми обладают КДЛ и кредитор».
При этом, продолжил он, суд округа указал на непредрешимость результата спора. Итоги рассмотрения дела «на новом круге» будут зависеть от того, подтвердятся ли доводы истца доказательствами, в получении которых, как представляется, суд теперь окажет необходимую помощь. Также многое будет зависеть от поведения ответчика, который при предыдущих рассмотрениях, с точки зрения суда округа, избрал линию уклонения от представления доказательств и пояснений, заключил он.
Часто в условиях корпоративного конфликта от участников общества могут скрываться сведения об истинном финансовом состоянии бизнеса, о движении денежных средств, констатировал Александр Спиридонов, адвокат, старший юрист практики банкротства Коллегии адвокатов Delcredere.
Суд округа справедливо отметил, что в таких ситуациях нужно учитывать предопределенное неравенство процессуальных позиций, правильно распределять бремя доказывания, не допускать немотивированного отклонения ходатайств истца, в том числе об истребовании доказательств. Вероятно, на новом круге рассмотрения спора суд первой инстанции истребует выписки по банковским счетам общества. Это поможет установить наличие или отсутствие вывода активов, оценить добросовестность действий руководителя.
По мнению Светланы Бородкиной, советника практики корпоративных конфликтов и банкротств Юридической компании «ССП-Консалт», на первый взгляд в данном кейсе усматривается наличие классического корпоративного конфликта, в котором один из участников общества через механизм внебанкротной субсидиарной ответственности пытается пересмотреть ранее принятые корпоративные и предпринимательские решения.
Фактически, пояснила она, нижестоящие суды пришли к выводу об отсутствии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности только потому, что истец и ответчик являлись контролирующими лицами, владеющими по 50% уставного капитала общества. Следовательно, они в равной степени были осведомлены о судьбе предоставленных займов и оба должны были предпринимать действия для избежания исключения общества из ЕГРЮЛ. Однако кассационный суд указал, что истец является прежде всего кредитором, а следовательно, не находится в процессуальном равенстве с ответчиком в возможностях доказывания, указала Светлана Бородкина.
Для правильного разрешения спора даже в данной ситуации корпоративного конфликта судам следовало дать оценку фактическим действиям каждого из участников общества и правильно распределить бремя доказывания. В отношении истца надлежало установить степень его вовлеченности в корпоративные правоотношения. Если истец, как в данном кейсе, обладая статусом 50%-го участника общества, был лишен информации о хозяйственной деятельности общества и не принимал участие в его управлении, то на такого участника может быть возложено только бремя кредиторского доказывания. На ответчика, как контролирующее лицо, в любом случае должно возлагаться бремя доказывания его непричастности в доведении до банкротства и отсутствии умысла на уклонение от погашения требований кредитора.
В рассматриваемом постановлении кассационный суд в очередной раз указывает, что для правильного разрешения спора надлежит прежде всего правильно распределять бремя доказывания между сторонами и надлежащим образом оценивать фактические обстоятельства, заключила она.