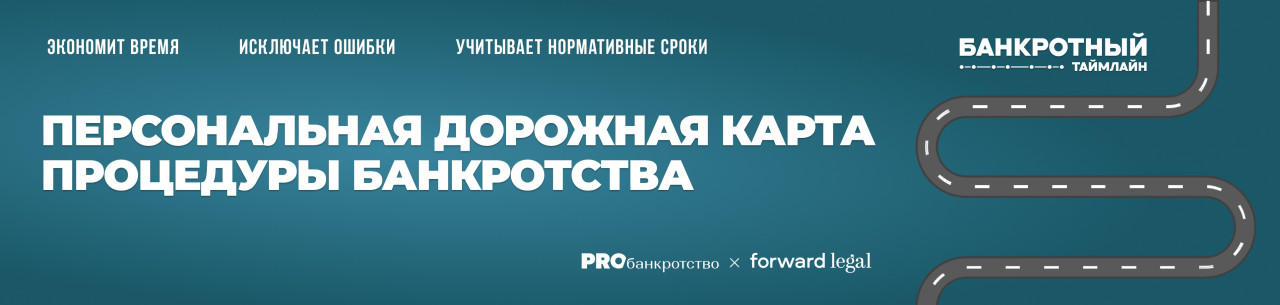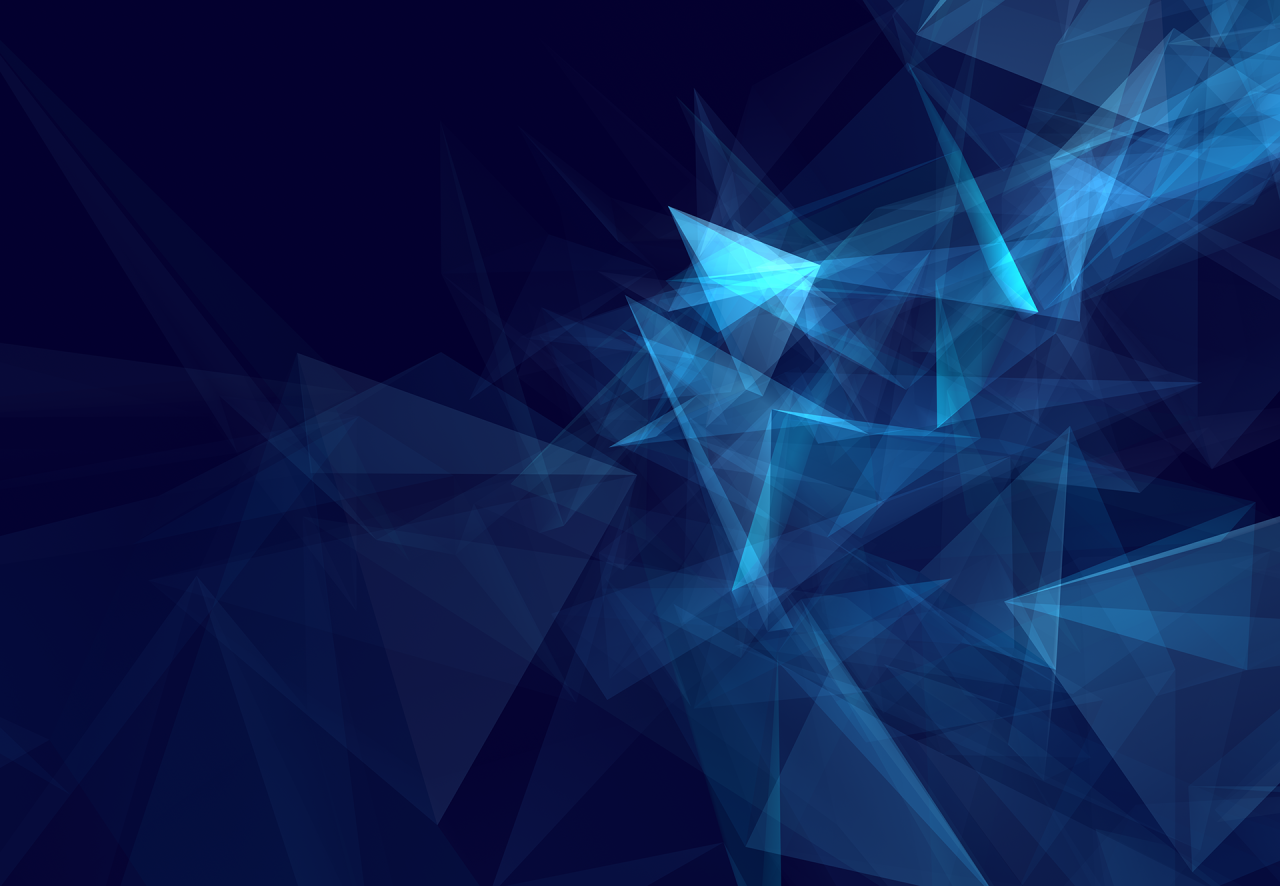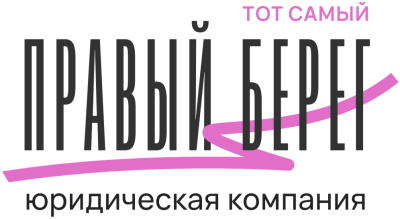Группа из 21 арбитражного управляющего во главе с Максимом Доценко подала в Верховный Суд РФ коллективный иск о признании недействующим Постановления Правительства РФ от 22 мая 2024 г. № 634, вносящее изменения в правила отбора арбитражных управляющих по делам о банкротстве с участием уполномоченного органа.
Напомним, ранее арбитражные управляющие Евгений Семченко и Анатолий Баранов обратились в Верховный Суд РФ с административными исковыми заявлениями о признании недействующим Постановления Правительства РФ от 22 мая 2024 г. № 634 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 года № 257» (см. статьи Верховный Cуд рассмотрел претензии АУ к балльному рейтингу ФНС и Балльная система для АУ: детали второго административного иска в Верховный Суд). Максим Доценко с соистцами попросил суд объединить их иск, разделенный на несколько подразделов, с административными исками Семченко и Баранова.
Правовая природа деятельности арбитражного управляющего
Максим Доценко и другие истцы подчеркивают двойственный характер профессии АУ, сочетающей частные и публичные элементы.
С одной стороны, как указано в иске, «арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным законом профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой». То есть он действует самостоятельно, не будучи государственным служащим. При этом он обязан быть членом саморегулируемой организации.
Более того, подчеркивают административные истцы, арбитражный управляющий «соответствует критериям, определенным ст. 4 (п. 1) Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции": является физическим лицом, осуществляет профессиональную деятельность, приносящую доход, состоит в саморегулируемой организации». То есть он является хозяйствующим субъектом, к которому должны применяться принципы свободы экономической деятельности и защиты конкуренции.
С другой стороны, в иске отмечается, что «правовое регулирование отношений в области банкротства основывается, помимо прочего, на положениях статей 8, 17, 19, 34 и 35 Конституции Российской Федерации, а сам этот институт выступает рыночным механизмом оздоровления российской экономики (Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2019 N 36-П)». То есть банкротство имеет важное публичное значение.
В этом контексте арбитражный управляющий «призван обеспечить достижение публично-правовой цели — баланс интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, а не исключительно удовлетворение требований кредиторов», указывают истцы со ссылкой на Постановление КС РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П. То есть наряду с частными интересами он обязан учитывать и общественные.
При этом в иске подчеркивается позиция Конституционного Суда о том, что «исходя из требования статьи 34 (часть 2) Конституции Российской Федерации, саморегулируемые организации арбитражных управляющих не вправе устанавливать такие правила членства, которые способны привести к недопущению, ограничению и тем более устранению конкуренции». То есть и внутри профессионального сообщества должны действовать рыночные принципы.
«Безусловно, двойственная правовая природа деятельности арбитражного управляющего как хозяйствующего субъекта, наделенного публичными функциями, представляет собой сложную правовую категорию», признают истцы. При этом они критикуют, что «в настоящее время со стороны законодателя не предпринимается мер к созданию большей определенности по данному вопросу».
По мнению истцов, такая неопределенность не должна толковаться против арбитражных управляющих и не может служить основанием для ограничения их прав. Напротив, из нее следует необходимость руководствоваться приоритетом прав и свобод согласно ст. 2 Конституции РФ.
Новая система оценки по баллам, введенная оспариваемым Постановлением Правительства, по мнению истцов, не учитывает эту специфику правового статуса арбитражного управляющего. Она подходит к нему лишь как к техническому исполнителю, действующему по заданным правилам, а не как к самостоятельному хозяйствующему субъекту.
Такой подход, по мнению истцов, не соответствует Конституции РФ и законодательству о защите конкуренции. Он нарушает профессиональные права арбитражных управляющих и не позволяет им эффективно выполнять свои функции по обеспечению баланса интересов в делах о банкротстве.
Модели управления должником в ходе рассмотрения дел о банкротстве. Принцип «разделения властей»
Истцы указывают, что традиционно выбор арбитражного управляющего относится «к исключительной компетенции собрания кредиторов».
При этом роль суда является ограниченной, отмечают истцы. Согласно п. 56 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35, на который они ссылаются, «в тех исключительных случаях, когда совершение арбитражным управляющим неоднократных грубых умышленных нарушений в данном или в других делах о банкротстве, подтвержденное вступившими в законную силу судебными актами, приводит к существенным и обоснованным сомнениям в наличии у арбитражного управляющего должной компетентности, добросовестности или независимости, суд вправе по своей инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц отказать в утверждении такого арбитражного управляющего или отстранить его».
Этот подход подтверждается и п. 4.1 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 11 октября 2023 г., который гласит: «Суд должен проверить представленную кандидатуру арбитражного управляющего на соответствие требованиям добросовестности, независимости, должной компетентности и т.п. Если имеются разумные сомнения в соответствии предложенной кандидатуры требованиям закона, то суд должен отказать в ее утверждении, предложить представить иную кандидатуру, а в исключительном случае затребовать кандидатуру другого управляющего (в том числе посредством случайного выбора)».
То есть, подчеркивают истцы, «метод случайного выбора должен применяться в исключительных случаях, а не в качестве общего правила».
Такое распределение полномочий между собранием кредиторов, арбитражным управляющим и судом истцы называют моделью «разделения властей» при банкротстве. Они проводят аналогию с обычной компанией, где ключевые решения принимают собственники, совет директоров и менеджмент, а суд выступает лишь арбитром по спорным вопросам.
Оспариваемое Постановление Правительства, вводя балльную систему оценки арбитражных управляющих, по мнению истцов, «размывает принцип контроля кредиторов и необоснованно расширяет полномочия уполномоченного органа (ФНС) по выбору арбитражных управляющих на основе дискриминационных критериев». То есть происходит концентрация власти в руках ФНС в ущерб как кредиторам, так и независимости арбитражных управляющих.
Такой подход, указывают истцы, противоречит не только букве, но и духу законодательства о банкротстве и сложившейся практике его применения. Они иллюстрируют это, в том числе, ссылкой на позицию судьи ВС РФ Ивана Разумова, который в интервью отметил: «Нужно, чтобы арбитражный управляющий был помощником суда, и мы призываем их к этому, ведь, если подумать, мы делаем одно общее дело». То есть арбитражный управляющий должен быть самостоятельным и объективным участником процесса.
В иске приводится и более общее соображение, что «в рамках обычной хозяйственной деятельности выбор участниками компании заведомо некомпетентного руководителя может быть признан злоупотреблением правом».
Оспариваемое же Постановление, по мнению Максима Доценко и его коллег, «фактически направлено на отрицание исторических процессов» разделения труда, «а значит — и на снижение экономической эффективности управления должниками в ходе процедур банкротства».
Отсутствие дифференциации как проявление несправедливости и дискриминации
Истцы указывают, что действующий Закон о банкротстве предусматривает широкий перечень категорий должников: от обычных организаций до граждан, крестьянских хозяйств, финансовых организаций, стратегических предприятий и субъектов естественных монополий. Каждая из них имеет свои особенности регулирования.
Кроме того, в иске подчеркивается, что под обобщенную категорию «обычная организация» в реальности подпадают компании принципиально разного масштаба и отраслевой принадлежности: от небольших до крупнейших, от булочных до нефтеперерабатывающих заводов. В иске приводится пример банкротства АО «Антипинский НПЗ» с балансовой стоимостью активов за 2023 г. в 34,4 млрд рублей.
«Очевидно, что имеющаяся в Законе о банкротстве классификация категорий должников даже близко не отражает фактическое состояние российской экономики с точки зрения видов экономической деятельности (отраслей народного хозяйства), фактических категорий участвующих в каждой отрасли субъектов, их объективных экономических возможностей и прочих факторов», — указано в иске.
При этом, отмечают истцы, разные отрасли требуют от арбитражных управляющих разных компетенций и специальных знаний. «Очевидно, что эффективное управление, например, нефтеперерабатывающим заводом, лесопильным производством или компанией в сфере энергетики требует различных компетенций, профильного образования, познаний специального законодательства (помимо Закона о банкротстве), причем наличие одних компетенций не означает наличия других», — говорится в иске.
Однако оспариваемое Постановление Правительства, вводя балльную систему, устанавливает единые критерии оценки для арбитражных управляющих вне зависимости от категории должника и отрасли. Тем самым, по мнению истцов, «позиция административного ответчика фактически направлена на отрицание исторических процессов» разделения труда.
Более того, новая система, указывают истцы, фактически уравнивает по сложности процедуры банкротства компаний и граждан, в то время как они принципиально различаются по масштабам и последствиям. Истцы приводят статистику, согласно которой 6 из 10 арбитражных управляющих, занимающих верхние строчки нового рейтинга, специализируются на банкротстве граждан, но при этом получили 66% дел о банкротстве компаний по совокупному балансу.
Наиболее ярким примером истцы называют арбитражного управляющего Екатерину Грудеву, которая за 10 завершенных дел о банкротстве юридических лиц с суммой требований в 4,7 млрд рублей погасила лишь 2,2 млн рублей, но при этом получила право вести дела еще 10 компаний с активами на 23,5 млрд. «Этот "потрясающий" результат оценен Федеральной налоговой службой в 9475,37 баллов (место в рейтинге: 48 из 7169)», — иронизируют истцы.
Они сравнивают такой унифицированный подход с попыткой «оценивать деятельность суда по количеству удовлетворенных или неудовлетворенных исков» или «сравнивать эффективность участковых терапевтов, способных вылечить простуду в массовом порядке, и хирургов, проводящих сложные операции на сердце, по количеству пациентов, срокам и успешности их излечения».
«Очевидно, что в такого рода "социалистическом соревновании" возможности их участников в свете выделяемых административным ответчиком критериев априори неравны», — заключают истцы.
Они усматривают в этом не только нарушение принципа справедливости, вытекающего из Конституции РФ (на что указывают Постановления КС РФ от 31 мая 2022 г. № 22-П, от 4 июля 2022 г. № 27-П, от 19 декабря 2023 г. № 59-П), но и прямую дискриминацию. В подтверждение истцы ссылаются на Постановление КС РФ от 19 марта 2024 г. № 11-П, согласно которому «отступлением от начал равенства и справедливости может являться не только введение неоправданной, не имеющей под собой разумного основания дифференциации в правовом статусе лиц, относящихся к одной категории, но и отсутствие таковой применительно к разным категориям лиц в ситуации, когда дифференциация обоснована их объективными различиями и преследует конституционно значимые цели».
Объективное вменение как основа концепции балльной системы
Истцы указывают, что «наиболее активными участниками дела о банкротстве являются арбитражный суд и арбитражный управляющий». При этом арбитражный управляющий, «являясь одной из ключевых фигур дела о банкротстве на любой его стадии, тем не менее, не обладает всей полнотой полномочий по делу о банкротстве».
В частности, отмечается в иске, управляющий «не вправе принимать процессуальные решения за всех лиц, участвующих в деле, в силу принципа "разделения властей"» и «не вправе контролировать деятельность судей и процессуальные сроки рассмотрения дел, поскольку судьи априори независимы».
Между тем оспариваемое Постановление Правительства, вводя балльную систему, фактически ставит оценку работы арбитражного управляющего в зависимость от таких решений и действий других участников процесса. В иске приводится таблица, согласно которой количество баллов арбитражного управляющего зависит, в частности, от утверждения судом планов финансового оздоровления, внешнего управления или реструктуризации долгов, от завершения процедур в связи с восстановлением платежеспособности, от размера реестра требований кредиторов и удовлетворенных требований, от цены продажи имущества, от сроков процедур банкротства, от привлечения управляющего к административной ответственности или взыскания с него убытков.
«Снижение количества имеющихся баллов ограничивает возможности арбитражного управляющего по выдвижению своей кандидатуры на ведение процедур банкротства с участием уполномоченного органа, иными словами, объем баллов — это объем прав арбитражного управляющего», констатируют истцы.
Однако, указывают они, утверждение плана финансового оздоровления, внешнего управления или реструктуризации долгов зависит не только от действий арбитражного управляющего, но и от объективного финансового состояния должника, позиции кредиторов и решения суда. При этом арбитражный управляющий по закону даже не наделен полномочиями самостоятельно разрабатывать такие планы.
Размер реестра требований кредиторов, отмечают истцы, хотя и должен контролироваться арбитражным управляющим (который обязан проверять обоснованность требований и возражать против необоснованных), в конечном счете определяется судом. Более того, оспариваемое Постановление «фактически дестимулирует арбитражных управляющих исполнять обязанность возражать на необоснованные требования кредиторов для цели получения наибольшего количества баллов результативности».
Сходным образом обстоит дело и с размером удовлетворенных требований кредиторов, который зависит от стоимости активов должника, оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной ответственности. «Данный результат проведения процедур банкротства фактически зависит как минимум от: а) фактического имущественного положения должника к моменту введения процедуры банкротства; б) количества совершенных должником сделок, которые могут быть оспорены и результатов рассмотрения данных вопросов судом; в) совершения либо несовершения контролирующими должника лицами действий, влекущих субсидиарную ответственность (в том числе убытки) и результатов рассмотрения данных вопросов судом; г) действий арбитражного управляющего», — указано в иске.
Что касается цены продажи имущества, то ее повышение над начальной стоимостью, указанной в отчете независимого оценщика, как правило, маловероятно, отмечают истцы. «Возможность или невозможность продажи имущества обусловлена исключительно конъюнктурой рынка. Окончательный результат торгов (цена продажи) определяется объективными рыночными процессами (соответствием спросу цены предложения)», — указано в иске. При этом в силу законодательных ограничений по срокам реализации имущества в рамках процедур банкротства оно обычно «реализуется по ликвидационной стоимости (с дисконтом за срочность продажи), то есть в самом Законе о банкротстве заложено противоречие».
Наконец, в вопросе сроков процедур банкротства истцы ссылаются на позиции административных исков Семченко Е.В. и Баранова А.Н. и дополнительно отмечают, что «в силу ст. 153 (ч. 2, п. 10) АПК РФ именно судья руководит судебным заседанием, в силу ст. 113 (ч. 1) АПК РФ процессуальные сроки определяются судом исходя из каждой конкретной ситуации». Кроме того, затягивание сроков возможно «при участии в деле о банкротстве иностранных лиц (раздел V АПК РФ), либо при наличии связанных с делом о банкротстве уголовных дел».
Таким образом, настаивают истцы, оспариваемое Постановление базируется на принципе объективного вменения арбитражному управляющему ответственности за результаты дела, которые зависят не только и не столько от его действий. Они указывают, что такой подход расходится с конституционным пониманием вины и недопустимости объективного вменения, выраженным в ряде решений Конституционного Суда РФ.
На основании изложенного истцы попросили Верховный Суд РФ:
— признать недействующим Постановление Правительства РФ от 22 мая 2024 г. № 634 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 29.05.2004 года № 257» в полном объеме;
— объединить данное дело с ранее поступившими административными исками Евгения Семченко и Анатолия Баранова (дело № АКПИ24-1111, судебное заседание назначено на 26 марта 2025 г.).
Почему это важно
Рустем Мифтахутдинов, член наблюдательного совета Национальной ассоциации «Банкротный Клуб», указал, что «если подняться над исками о признании недействительным постановления Правительства о рейтинговом выборе арбитражных управляющих на высоту птичьего полета, то вырисовывается очень странная картина».
Сегодняшний абсолютно непрозрачный выбор арбитражных управляющих обычными кредиторами никак не нарушает и не ограничивает их права, но система, которая позволяет управляющему в рамках понятной системы рейтинга получить доступ к процедурам банкротства, в которых заявителем выступает уполномоченный орган, вдруг оказывается хуже. На мой взгляд, любой прозрачный выбор лучше непрозрачного; отдельные недостатки, выявленные опытом применения рейтинга, могут быть устранены в режиме тонкой настройки.
Максим Доценко, председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих (ОРПАУ), выступающий истцом, отметил, что «следуя логике ФНС, я должен буду заявить отвод всей тройке судей в данном деле: всего 6,8 дел в месяц рассматривают».
За вчерашний день 50 заявлений о выдаче судебных приказов не рассмотрели. А с таким подходом большого количества баллов не наберешь! Разумеется, это сарказм, но он в полной мере отражает суть подхода ФНС.
Гадать относительно предстоящего решения ВС РФ — дело неблагодарное, а может быть, даже и вредное (давление на суд недопустимо), отметил Павел Замалаев, арбитражный управляющий, управляющий партнер Юридической компании «Замалаев, Стороженко и партнеры», соистец.
С самого начала оговорюсь, что я ЗА рейтинг, но с двумя оговорками: он должен быть (1) добровольным; (2) — понятным. То, что предлагает нам Постановление № 634, не является ни добровольным к применению (как минимум для ФНС), ни понятным. Более того, есть претензия на то, чтобы соответствующий подход распространить на весь рынок. Являясь одним из соистцов, коротко прокомментирую соответствующий иск. Постановление Правительства дискриминационно в той части, в которой оно лишает возможностей управляющих быть утвержденными в том или ином деле на основании количества баллов, начисленных в соответствии с ним. Получается, что я, погасивший требования кредиторов в своих процедурах на сумму 2 млрд руб., имею 120 баллов. Управляющий, освободивший физлиц от долгов на такую же сумму (а по факту списавший долгов на 2 млрд руб.), — 12 000 баллов. При выборе кандидатуры на банкротство условного «Антипинского НПЗ» я не смогу конкурировать с управляющим, списавшим долгов на 2 млрд руб., в итоге утвержден будет он, а не я. Это дискриминация. Дискриминация у нас прямо запрещена и Конституцией РФ и ФЗ «О защите конкуренции». На мой взгляд, самый простой и понятный рейтинг управляющих — это составленный на основании суммы требований кредиторов, которые погашены этим управляющим в процедурах банкротства.
По мнению Радмилы Радзивил, основателя, управляющего партнера Юридической компании «Правый берег», доводы административного иска справедливы и обоснованны, и она полностью поддерживает позицию коллег.
Радмила Радзивил считает, что на данный момент сложно оценить перспективы удовлетворения иска, однако надеется, что все доводы об абсурдности и несправедливости системы как минимум получат правовую оценку со стороны ВС РФ. По ее словам, методика ФНС России, как правильно отмечают заявители, похожа на социалистическое соревнование в худшем смысле этого слова, и эксперт неоднократно говорила об ее направленности на количество, а не качество работы.
Для того чтобы получить много баллов, необходимо: — Не брать процедур со сложной юридической работой, которые не получится завершить быстро (сроки — это ведь самое главное!). — Оценивать имущество подешевле, чтобы цена максимально выросла в ходе торгов. — Набирать баллы количеством направленных запросов и сделанных публикаций. Относиться к работе лучше максимально формально: ее результат на рейтинг не так сильно влияет, важнее, чтобы деятельность была бурной. — Подниматься в рейтинге за счет количества, а не качества проведенных процедур.
Если будешь придерживаться этих критериев, точно станешь лучшей версией себя. А будешь стараться сделать работу на совесть — не заработаешь баллы и можешь забыть о новых проектах. Надеюсь, что ВС РФ будет учтено упущение налоговой службой из виду качественных факторов, а также разнообразие должников и ситуаций отдельных процедур банкротства. Очень хочется верить в успех коллег.
Кирилл Харитонов, арбитражный управляющий Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих "Паритет"», согласен с тем, что доводы, приведенные в коллективном административном исковом заявлении, являются в целом вполне обоснованными. Озабоченность арбитражных управляющих правовой проблемой, изложенной в заявлении, по его словам, предсказуема.
Следует согласиться с доводами о том, что обжалуемое Постановление Правительства РФ предполагает оценку деятельности арбитражного управляющего, фактически оценивая деятельность всей системы судопроизводства по делам о банкротстве и всех ее участников. В действительности начисление баллов за работу арбитражного управляющего по выполнению некоторых критериев вызывает вопросы, отметил он.
«Вопросы, связанные с утверждением плана финансового оздоровления, плана реструктуризации долгов гражданина, внешнего управления, установлением размера реестра требований кредиторов, размером удовлетворенных требований кредиторов зачастую зависят не столько от эффективной работы (результативности) арбитражного управляющего, сколько от других факторов. К ним относятся в первую очередь: имущественное положение самого должника, масштабы его хозяйственной деятельности, причины банкротства, действия кредиторов, количество совершенных сделок, платежеспособность дебиторов и т.д. (этот список можно продолжать долго). Соответственно, в каждом случае результативность работы арбитражного управляющего будет зависеть от данных факторов, а не от эффективности его работы», — указал он.
Например, в случае начисления баллов за критерий «размер реестра требований кредиторов» может сложиться парадоксальная ситуация, продолжил Кирилл Харитонов. С одной стороны, арбитражный управляющий обязан возражать против необоснованных требований кредиторов. С другой стороны, возражения против требований кредиторов и дальнейший отказ суда во включении таких требований в реестр по смыслу Постановления Правительства приведет не к увеличению результативности управляющего, а к ее уменьшению.
В отношения критерия «сроки проведения конкретной процедуры конкурсного производства» (п. 13 Приложения № 3) также, по его словам, есть вопросы. По смыслу обжалуемого Постановления Правительства арбитражные управляющие, которые утверждены в крупных, а значит, и долгих, процедурах банкротства (с большим количеством имущества, обособленных споров и т.д.), будут иметь менее результативный балл, по сравнению с теми, кто утвержден в «технических», а значит, коротких по срокам процедурах банкротства.
Оценка деятельности арбитражного управляющего по критерию «повышение цены продажи имущества должника на торгах» также зачастую прямо не зависит от действий арбитражного управляющего, а обусловлена формированием спроса и предложения на конкретное имущество должника, указал он.
Таким образом, предусмотренная в Постановлении Правительства балльная система в действительности не отражает объективной результативности работы арбитражного управляющего, заключил он.
На мой взгляд, более или менее справедливым критерием результативности работы арбитражного управляющего (для целей, в которых используется обжалуемое Постановление Правительства) могло бы быть, например, количество вступивших в законную силу судебных актов о привлечении арбитражных управляющих к ответственности (взыскание убытков, привлечение к административной ответственности, удовлетворение жалоб за незаконные действия/бездействие). В таком случае для оценки результативности не будут иметь значения такие факторы, не зависящие от арбитражного управляющего, как имущественное положение самого должника, масштабы его хозяйственной деятельности, причины банкротства, действия кредиторов, количество совершенных сделок, платежеспособность дебиторов и т.д. Вместе с тем, несмотря на обоснованность доводов, приведенных в коллективном административном исковом заявлении, шансы его удовлетворения стоит оценить как низкие.