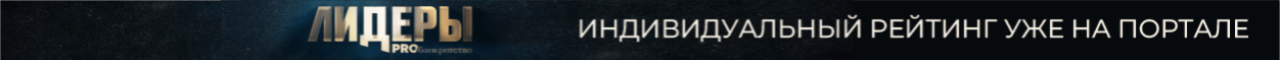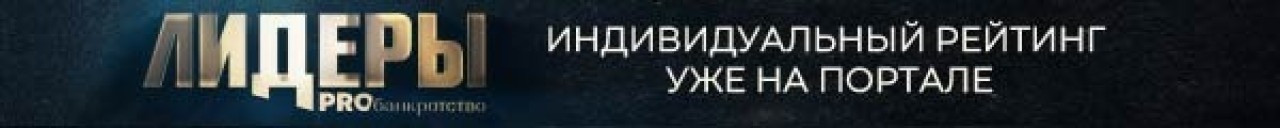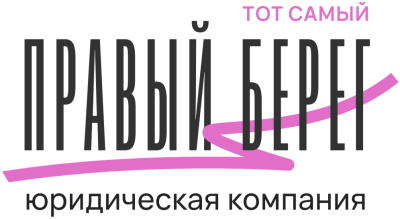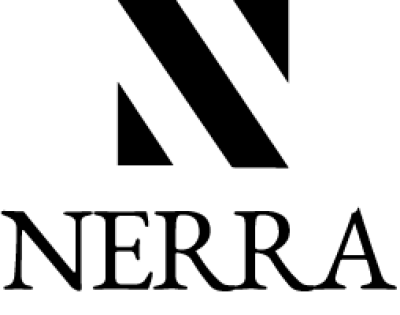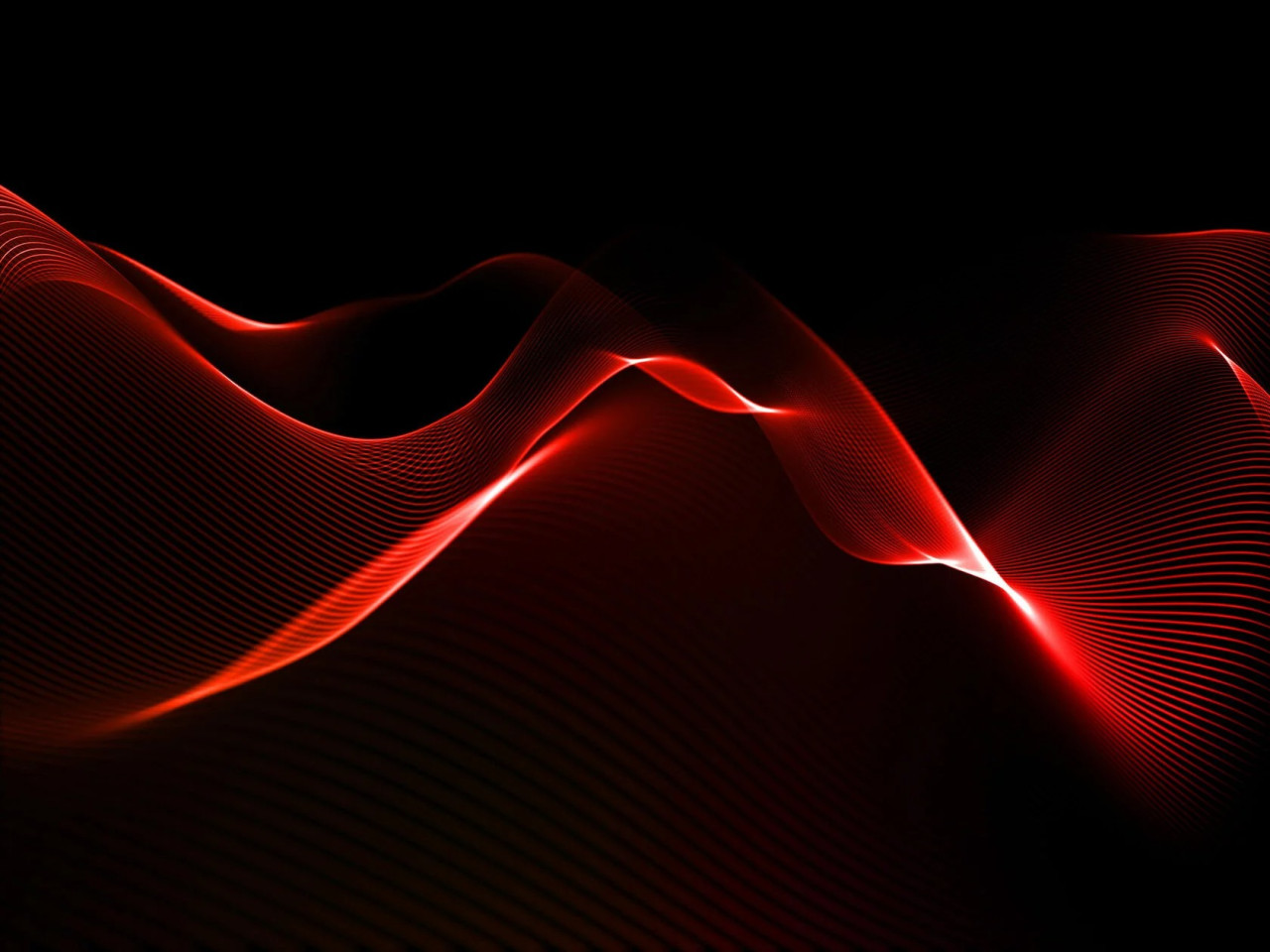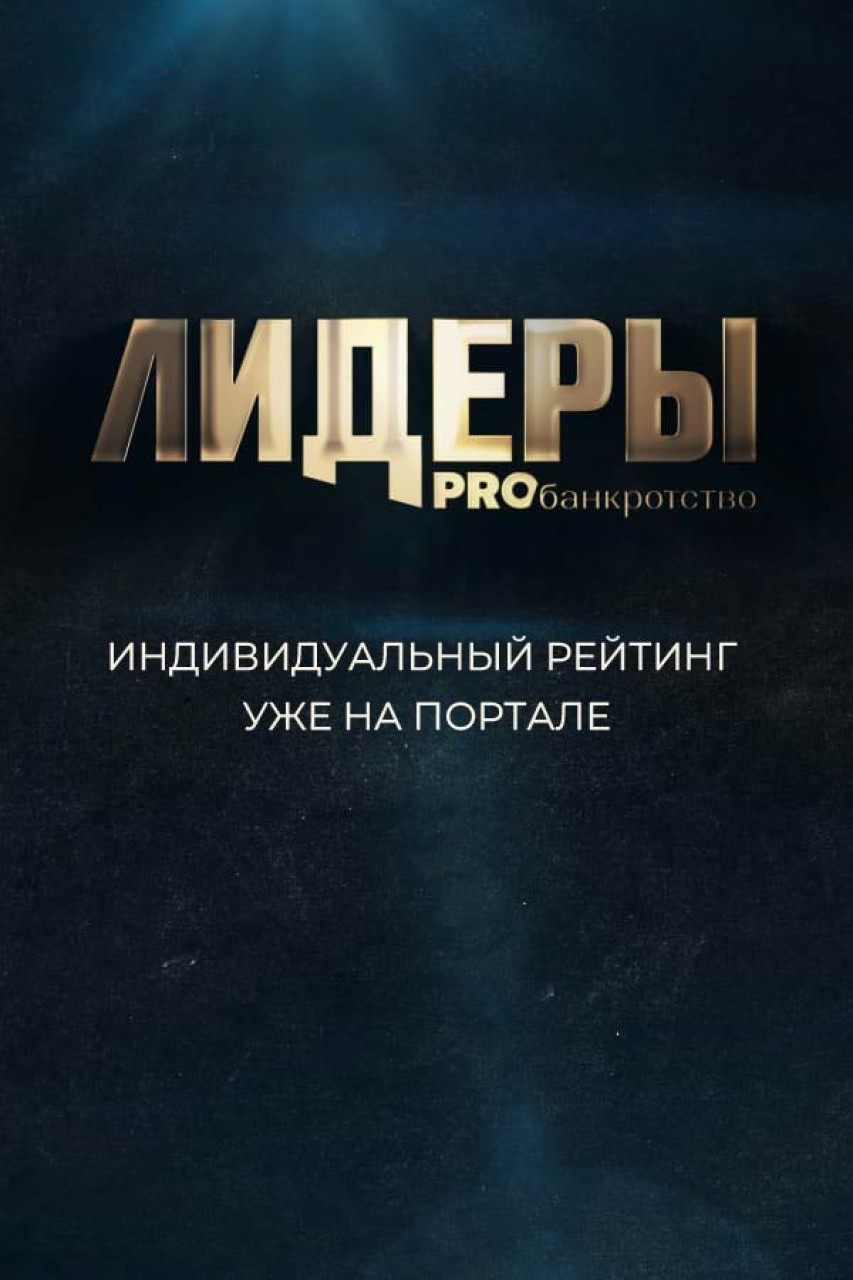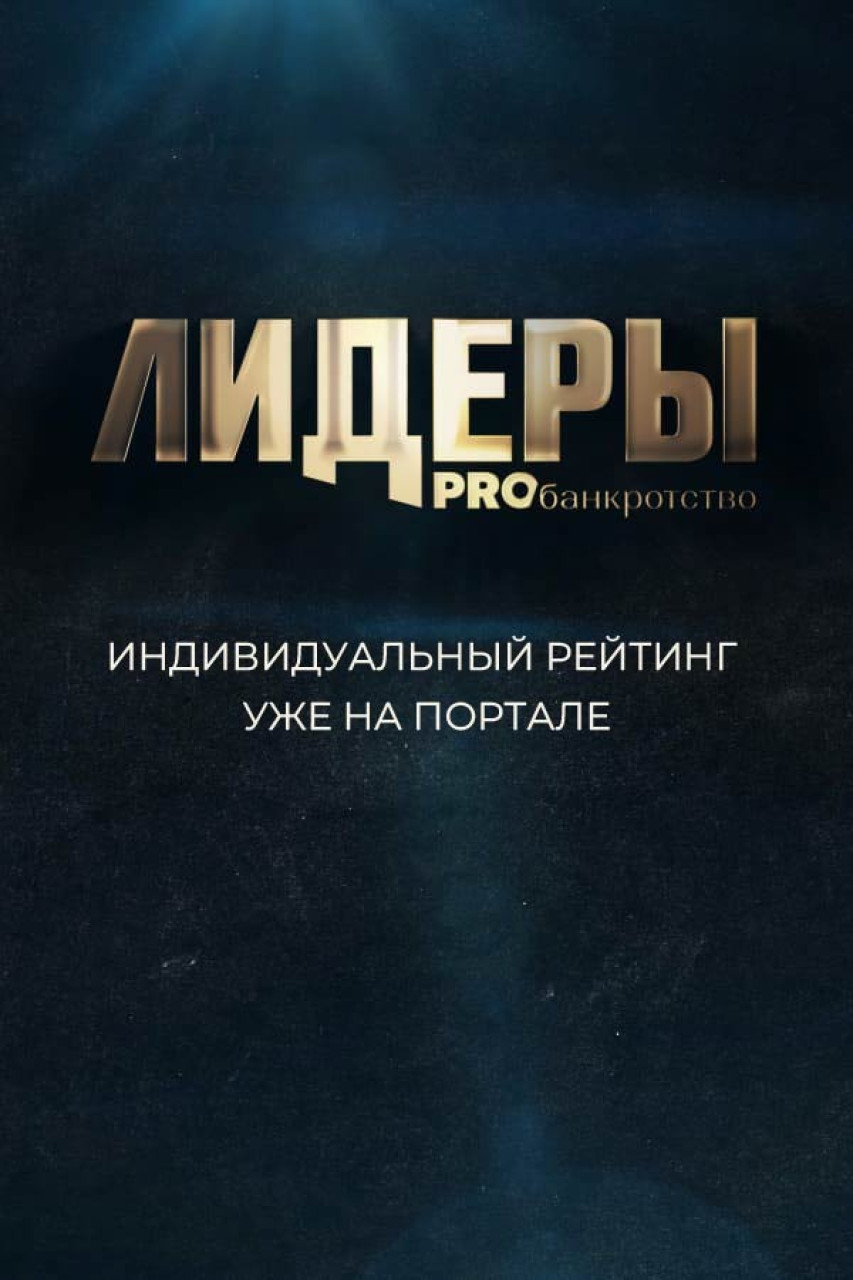Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы от 23 января, которым было отклонено заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении Андрея Баринова, бывшего «выгодоприобретателя по сделкам, причинившим ущерб» московскому Финпромбанку (ФПБ), к субсидиарной ответственности. АСВ, выступающее в качестве конкурсного управляющего обанкротившегося банка, требовало привлечь Баринова к субсидиарке солидарно с другими топ-менеджерами ФПБ на сумму 29,5 млрд рублей, рассказал «Интерфакс».
Разбирательство по заявлению АСВ началось еще 31 июля 2019 года. Помимо Баринова, агентство просило привлечь к ответственности еще 18 бывших руководителей Финпромбанка. В ходе процесса к участию в деле в качестве ответчиков были также привлечены Станислав Перминов и Анатолий Гончаров, признанные банкротами. При первом рассмотрении дела апелляционный суд 29 июня 2022 г. согласился с решением первой инстанции, которая удовлетворила требования АСВ в отношении четырех фигурантов — Перминова, Гончарова, экс-и.о. предправления ФПБ Сергея Спиридонова и члена совета директоров Александра Колганова.
Однако 27 октября 2022 г. это решение было отменено кассационной инстанцией в части привлечения к субсидиарке Колганова. Кроме того, арбитражный суд округа направил дело на новое рассмотрение в отношении еще семи человек. В результате повторного разбирательства суд первой инстанции согласился привлечь к ответственности только Андрея Баринова, отклонив претензии АСВ к остальным фигурантам. Это решение устояло в апелляции и кассации, но было отменено Верховным судом РФ в августе 2024 г. ВС отправил спор на новое рассмотрение, сохранив при этом обеспечительные меры в отношении Баринова.
При новом рассмотрении, которое началось в январе 2025 года, Арбитражный суд Москвы встал на сторону Баринова и отказался привлекать его к субсидиарной ответственности по заявлению АСВ. Суд апелляционной инстанции поддержал это решение, отклонив жалобу конкурсного управляющего.
Финпромбанк был признан банкротом 24 октября 2016 г. по заявлению ЦБ РФ. Функции конкурсного управляющего были возложены на Агентство по страхованию вкладов. С этого момента АСВ начало предпринимать попытки привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших ФПБ.
Почему это важно
В последние годы правоприменительная практика по делам о привлечении к субсидиарной ответственности (на уровне Верховного Суда РФ) требует глубокого анализа фактических обстоятельств, не допускает формализма, отметил Ашот Дабагян, старший юрист Финансово-правовой группы компаний Tenzor Consulting Group.
По его словам, суды трех инстанций на первом круге рассмотрения признали ответчика контролирующим должника лицом на основании презумпции бенефициара оспариваемых сделок и пришли к выводу, что без реального контроля над должником совершение таких сделок было бы невозможным. Однако при этом не были должным образом исследованы доводы ответчика о том, что сделки не принесли ему существенной выгоды, реальным выгодоприобретателем по сделке являлся, по сути, бюджет РФ и ФТС.
Потребовалось вмешательство ВС РФ, который указал на необходимость детального исследования всех обстоятельств дела, включая экономическую суть оспариваемых сделок. Так, Судом было установлено, что полученная ответчиком выгода не являлась существенной и не свидетельствовала о наличии контроля над должником, указал он.
Каких-то новых правовых выводов суд не сделал, но наглядно продемонстрировал важность тщательной проверки фактических обстоятельств, отказа от формального подхода при установлении обстоятельства контроля. По результатам повторного рассмотрения суд первой инстанции, с которым согласилась апелляционная коллегия, подтвердил, что сама по себе выгода от сделки (если она не является исключительной) не может служить безусловным доказательством контроля. Учитывая, что суды правильно применили нормы права, выводы основаны на оценке фактических обстоятельств (которая пересмотру в кассации не подлежит), шансы на отмену судебного акта в окружном суде представляются минимальными.
По словам Марины Байковой, старшего юриста Юридической фирмы Orlova\Ermolenko, и без того непростой процесс привлечения к субсидиарной ответственности здесь осложнен масштабом деятельности должника. Как видно, обособленный спор уже рассматривается на третьем круге. Суду после возвращения дела из СКЭС ВС РФ в отношении А.А. Баринова необходимо было рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии у привлекаемого лица выгоды от совершения сделок. Вопрос стоял именно в оценке доводов сторон и представленных в материалы дела доказательств.
Поскольку суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил определение без изменения, можно сделать вывод о надлежащей оценке обстоятельств дела и соответствии выводов суда представленным документам, указала она.
Суд кассационной инстанции, согласно положениям АПК РФ, может проверить правильность применения норм права, при этом давать переоценку доказательствам он не может в силу отсутствия таких полномочий. На мой взгляд, суд первой инстанции достаточно подробно рассмотрел вопрос получения выгоды от совершения сделок привлекаемым лицом и пришел к выводу об отсутствии такой выгоды. Конечно, не зная всех обстоятельств дела, сложно говорить о шансах на оспаривание судебных актов в кассационном порядке, но, судя по изложенному в судебных актах, доводы АСВ не выглядят убедительными.
Вероятно, этот, уже третий, круг субсидиарки А. Баринова по долгам Финпромбанка будет финальным, предположила Юлия Черепнова, старший юрист практики разрешения споров Правового бутика MAYS.
Суд первой инстанции, продолжила она, исправил ранее допущенные ошибки: выровнял процессуальные возможности сторон, не ставя ни одну в преимущественное положение. По оценке СКЭС ВС РФ (определения от 14 августа 2024 г.) ранее явный приоритет был у АСВ. При этом есть предположение, что в части применения норм материального права о виде ответственности вышестоящие суды могут скорректировать первую инстанцию.
Четыре года назад жесткая позиция судов в отношении «банкиров» (когда дела разрешались быстро, на крупные суммы и часто против ответчиков) стала определяющим фактором для обращения внимания на банковскую субсидиарку со стороны ВС РФ в 2021 г., напомнила она. Сейчас правоприменение стало ближе к стабильному и справедливому, но дело Финпромбанка показывает, что проблемные вопросы остаются.
По ее словам, это дело подсвечивает вопросы: что представляет из себя существенный (относительно масштабов деятельности должника) вред; что есть существенная выгода, получение которой предполагает наличие статуса КДЛ, а также вновь поднимает проблемы доказывания фактической аффилированности и распределения бремени доказывания.
«Ясно, что суд решает вопрос в зависимости от обстоятельств конкретного дела, однако оцифровка понятия "существенность" не исключена и может помочь как ответчикам – с прогнозированием своих рисков, так и заявителям – для выбора применимых норм. На данный момент есть некоторые дела, где суд пробует установить размер вреда, причиненного конкретным ответчиком, в процентном соотношении к совокупному вреду. Например, в деле СК "Диамант" (№ А40-206341) суд указал, что 26% — это существенно. К вопросу существенности обращался и ВС РФ в деле Богородицкого муниципального банка (определение от 17 ноября 2021 г. № 305-ЭС17-7124 (6) по делу № А41-90487/2015)», — подчеркнула она.
В настоящем деле вывод суда о том, что 192 млн руб. относительно 28 млрд руб. — это несущественно и поэтому не создает презумпцию КДЛ, представляется очевидным. Тем не менее при решении вопроса о наличии или отсутствии статуса КДЛ опираться на сухие цифры не стоит, необходимо смотреть шире и принимать во внимание дополнительные обстоятельства, например, принципиальную возможность совершения сделки или ряда сделок в отсутствии влияния на должника со стороны ответчика, т.е. могли ли быть доступны условия сделки для независимых участников оборота, взаимоотношения сторон до и после сделки, влияние сделки на каждую из сторон.