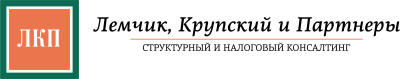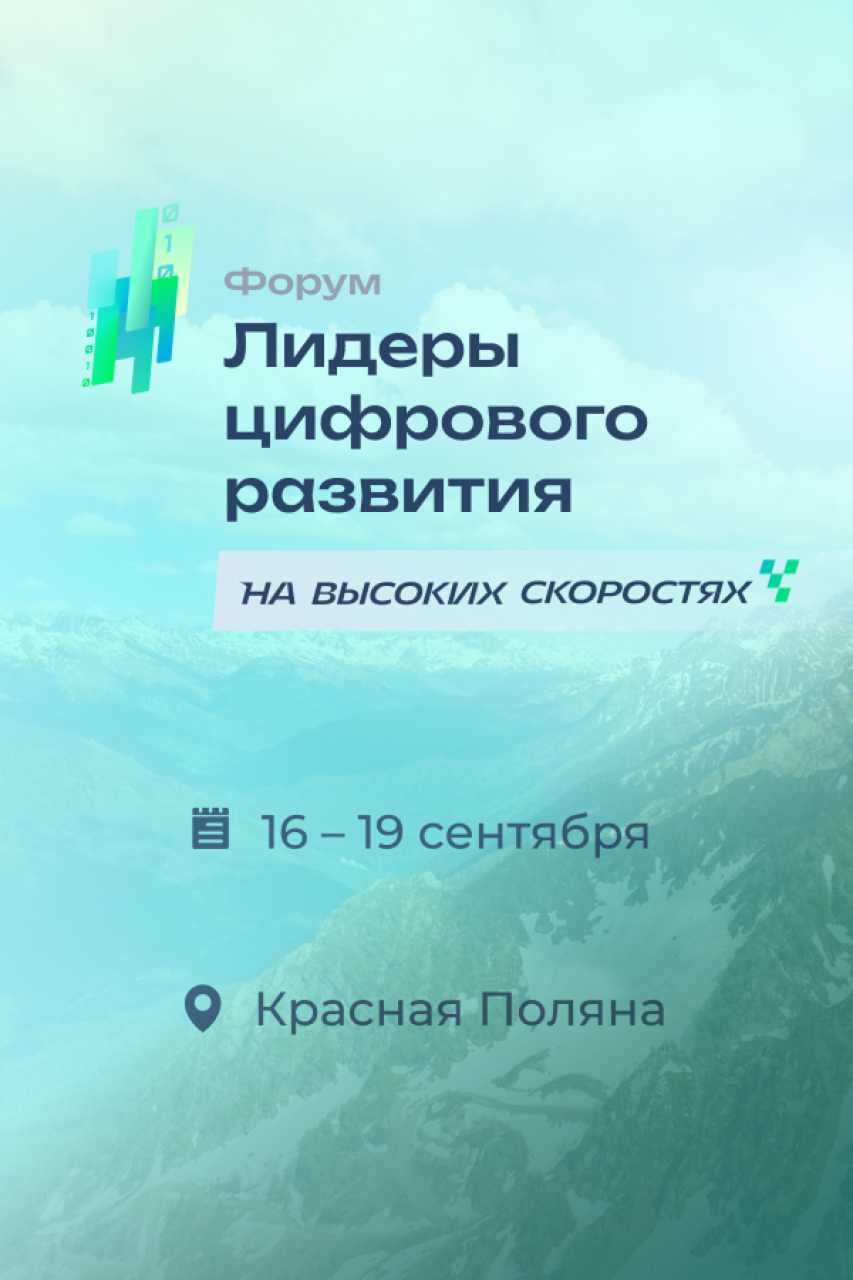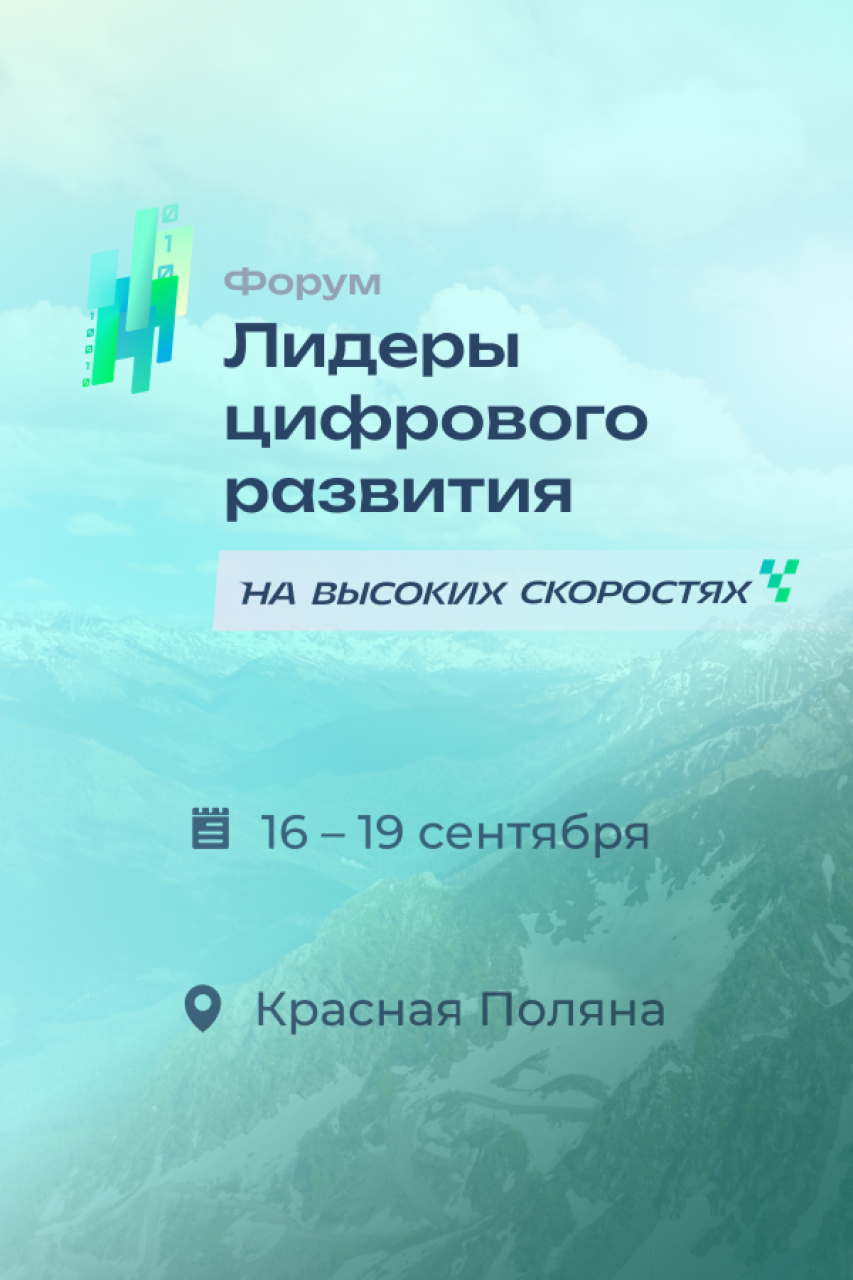Публикации
Новости
Статьи
Эксперт PRO
Интервью
Крупные банкротства
Сюжеты
Мероприятия
Обучения
Онлайн-обучения
Книги
Игроки рынка
Компании
Персоны
Кейсы
Услуги
Услуги
Активы
Активы