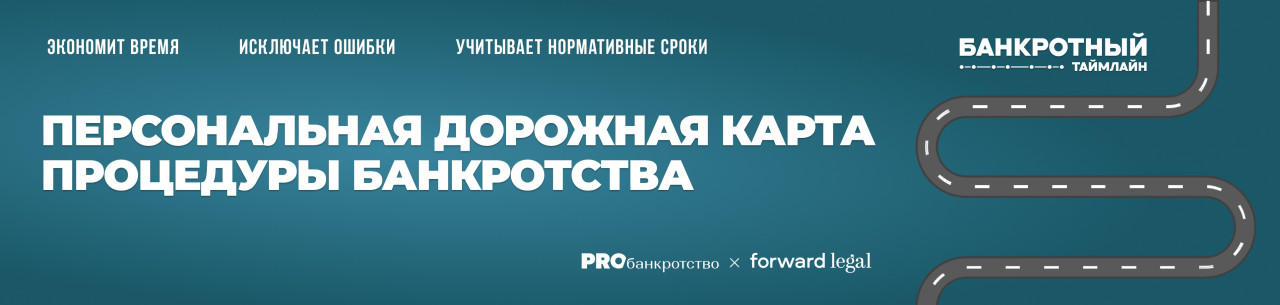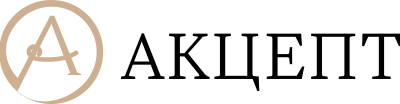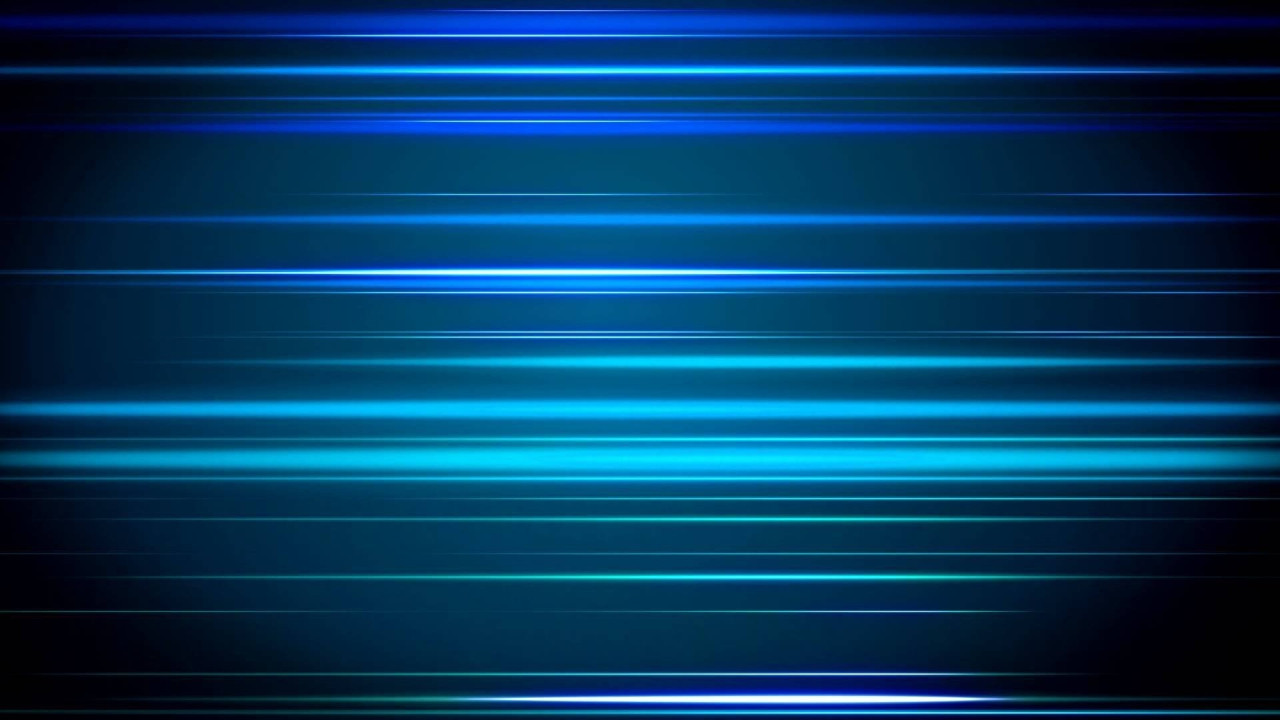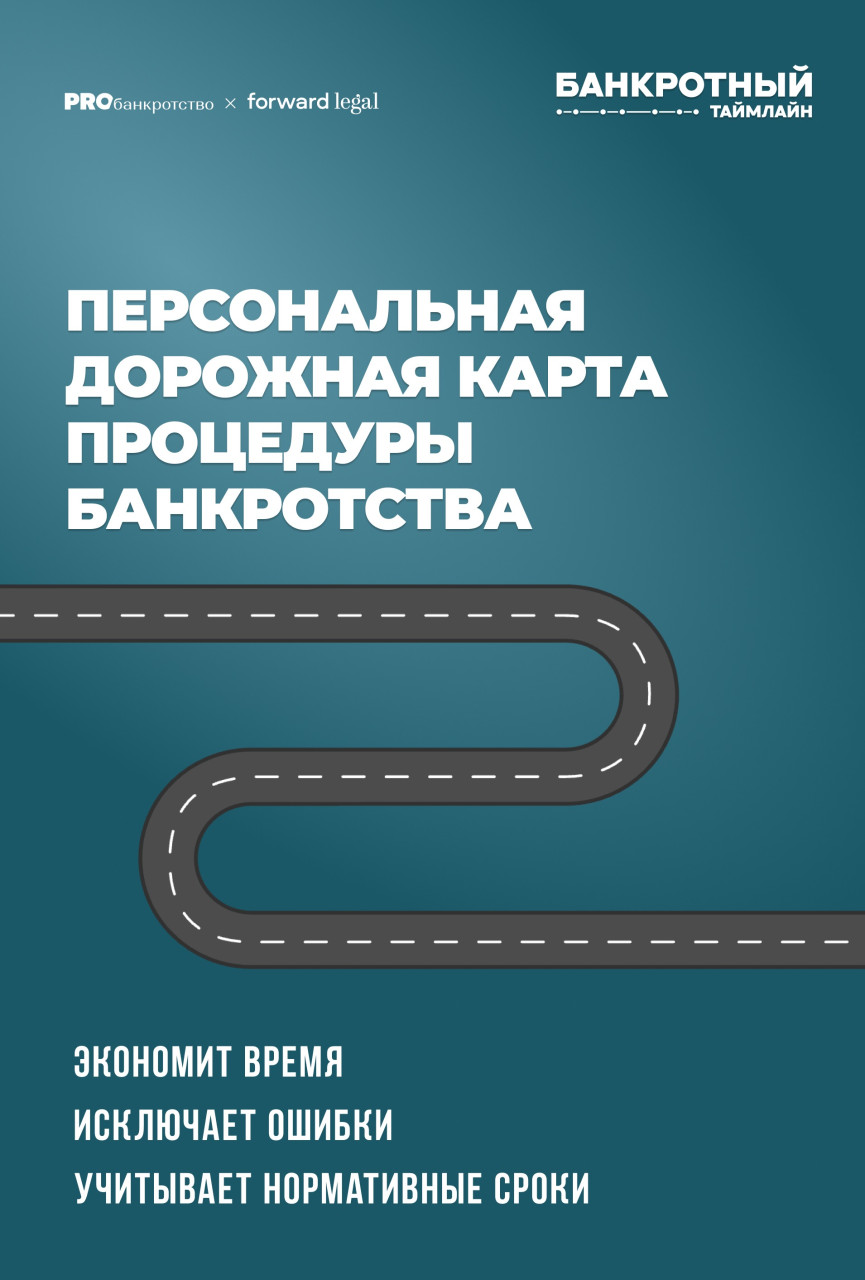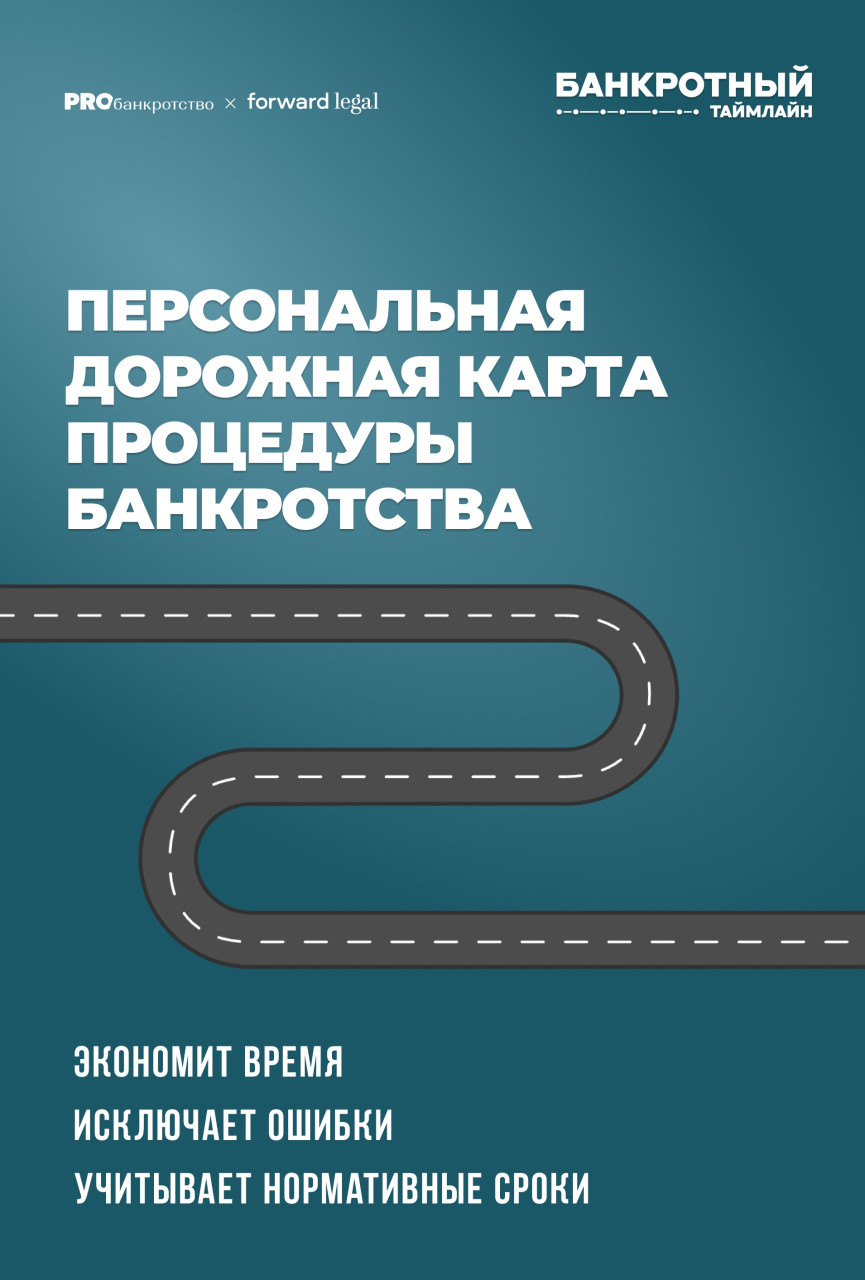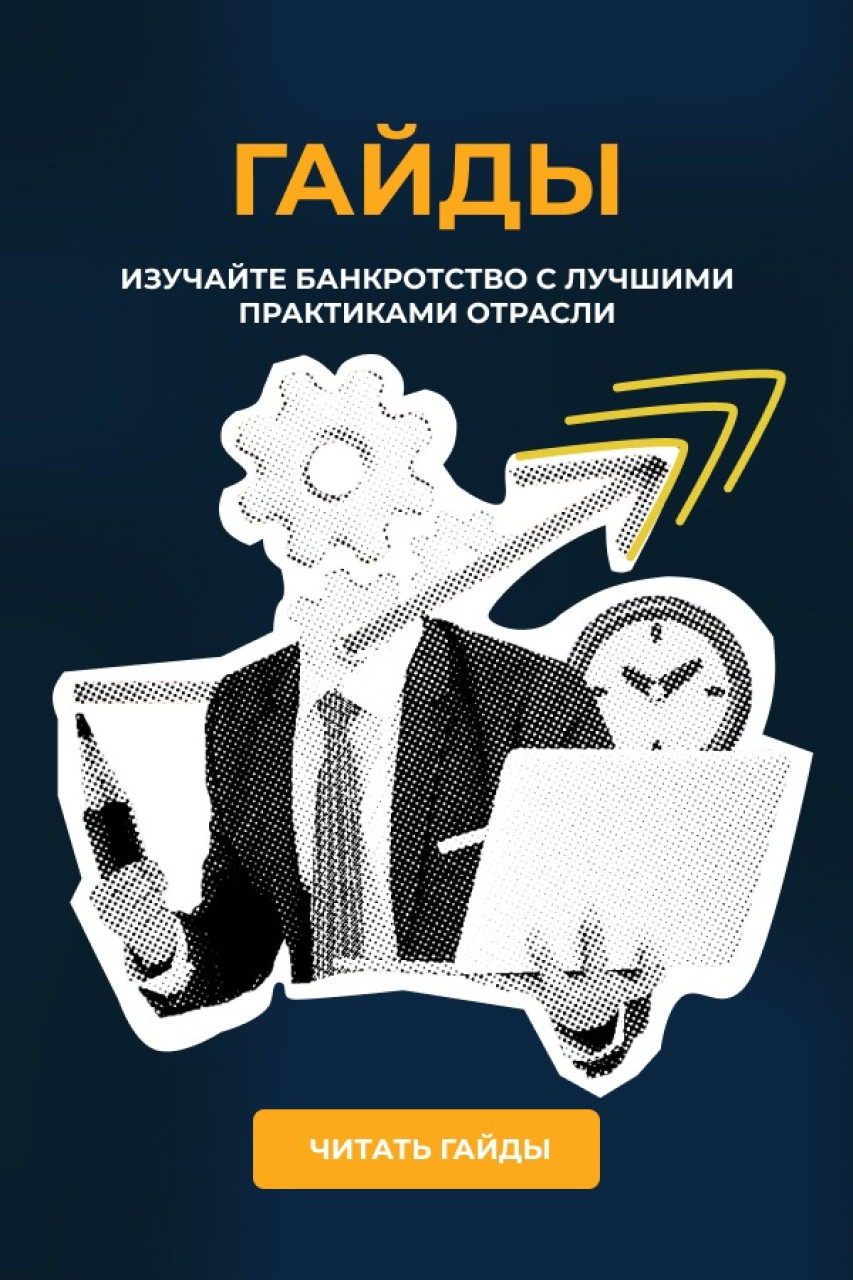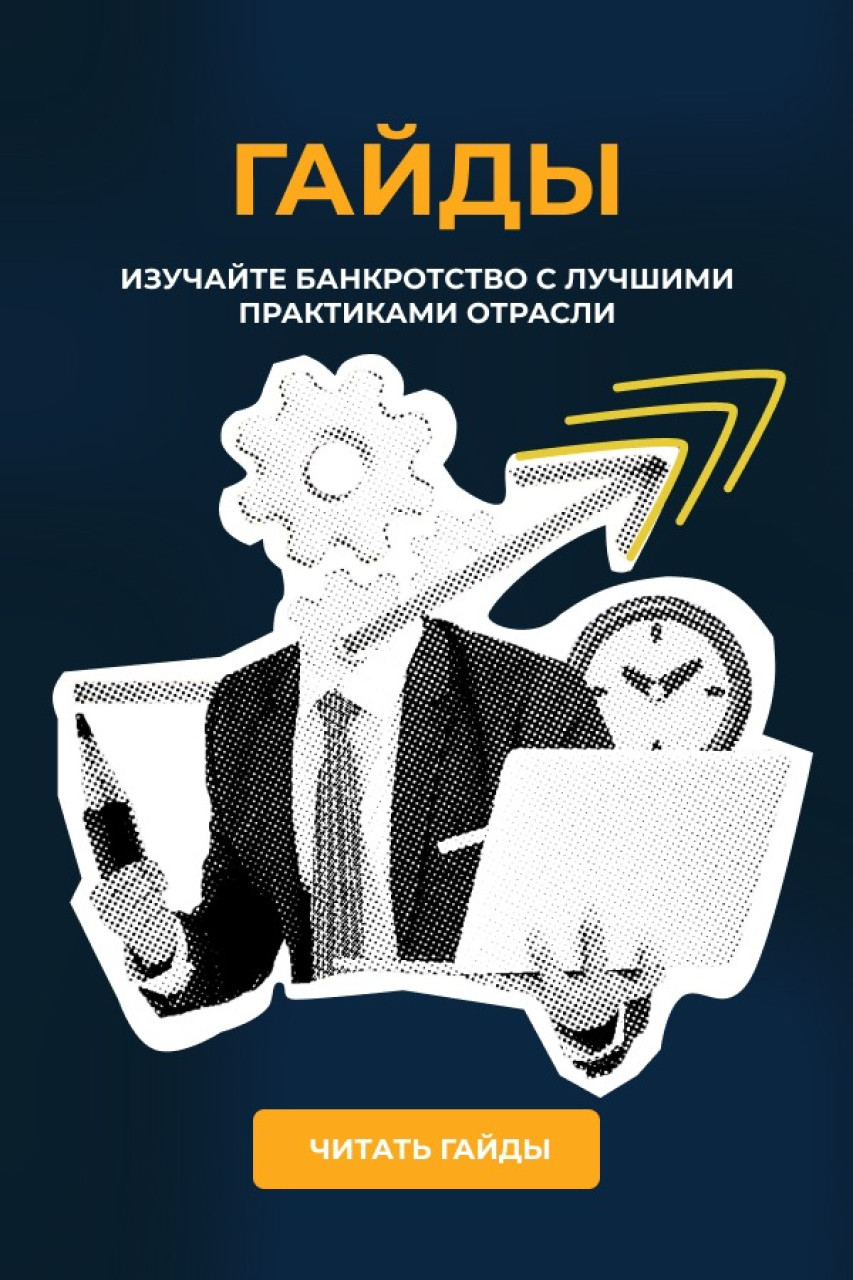Экономколлегия Верховного Суда РФ направила запрос в Конституционный Суд РФ о проверке конституционности ряда положений Закона о банкротстве, Уголовного кодекса РФ (УК РФ), Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) и Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ). Поводом для обращения стало выявление при рассмотрении дел о банкротстве противоречий между этими нормами в части регулирования снятия ареста, наложенного в рамках уголовного дела для обеспечения гражданского иска (см. статью Верховный Суд запросит у КС разъяснения по аресту счетов банкрота), с имущества банкрота (см. статью ВС приостановил спор о снятии ареста с имущества должника для запроса в КС), а также порядка взыскания уголовного штрафа с физлица-банкрота (см. статью ВС запросит позицию КС по спору об очередности погашения уголовного штрафа в банкротстве).
Так, согласно ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ, арест на имущество подозреваемого или обвиняемого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска накладывается по ходатайству следователя судом. В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ такой арест отменяется на основании постановления (определения) органа, в производстве которого находится уголовное дело. При этом, как указано в запросе ВС РФ, «абзац девятый пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве устанавливает, что с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника».
Конституционный Суд РФ ранее в своем постановлении от 31 января 2011 г. № 1-П указывал, что положения ст. 126 Закона о банкротстве и ст. 115 УПК РФ «не предполагают наложения ареста на имущество должника, находящегося в процедуре конкурсного производства, либо сохранения ранее наложенного в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество должника после введения данной процедуры для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в отношении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами». Иное, по мнению КС РФ, «означало бы подмену установленных федеральным законом частноправовых способов разрешения спора об имущественных правах публично-правовыми способами, ставящими отдельных конкурсных кредиторов в привилегированное положение лишь в силу их признания также субъектами уголовного судопроизводства».
Однако, как отметил в запросе ВС РФ, «положения уголовно-процессуального законодательства, в частности часть девятая статьи 115 УПК РФ, не предусматривают такого основания для снятия ареста, как признание собственника арестованного имущества несостоятельным (банкротом)». Из-за отсутствия должного согласования между УПК РФ и Законом о банкротстве аресты фактически сохраняются и после признания должника банкротом, что делает невозможным реализацию его имущества для расчетов с кредиторами.
Верховный Суд обратил внимание, что в такой ситуации «проведение процедуры банкротства фактически блокируется, как это случилось в деле №А47-13142/2015 о банкротстве Чуриловой А.Н., недвижимое имущество которой было арестовано в рамках уголовного дела в целях обеспечения исполнения уплаты уголовного штрафа, что препятствовало осуществлению конкурсных мероприятий».
Схожая проблема выявлена Верховным Судом и в отношении уголовных штрафов. Так, согласно абз. 5 ст. 2, абз. 7 и 10 п. 1 ст. 126, абз. 3 п. 2 ст. 213.11 и п. 5 ст. 213.25 Закона о банкротстве требования об уплате штрафов, установленных УК РФ, относятся к обязательным платежам и могут быть предъявлены только в деле о банкротстве. Однако, как подчеркнул в запросе ВС РФ, «положения частей 1 и 15 статьи 103 Закона об исполнительном производстве, устанавливая закрытый перечень оснований для окончания исполнительного производства по исполнительному листу о взыскании штрафа за преступление, не предусматривают такого основания для окончания исполнительного производства, как признание должника банкротом».
В результате, отметил ВС, уголовные штрафы продолжают взыскиваться параллельно с процедурой банкротства за счет имущества, которое должно составлять конкурсную массу в интересах всех кредиторов. «В некоторых случаях это приводит к тому, что казна в нарушение статьи 52 Конституции Российской Федерации получает удовлетворение ее требования об уплате штрафа за уголовное преступление приоритетно перед потерпевшими, требования которых включаются в реестр по обязательствам из деликта: то есть штраф за преступление оплачивается из средств, причитающихся потерпевшему от этого преступления как кредитору», – указал Верховный суд.
При этом ВС РФ отметил, что «положения частей первой, второй статьи 31 и частей второй, третьей статьи 32 УИК РФ также не учитывают возможности банкротства осужденного к штрафу». Невозможность исполнить наказание в виде штрафа в период банкротства, по мнению суда, влечет неблагоприятные последствия для самого гражданина-должника, поскольку в силу ч. 3 ст. 86 УК РФ препятствует погашению его судимости.
Таким образом, сделал вывод Верховный Суд, оспариваемые положения Закона о банкротстве, УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и Закона об исполнительном производстве в текущей системе правового регулирования создают конституционно значимую неопределенность. Они:
не обеспечивают эффективного механизма снятия ареста, наложенного в рамках уголовного дела для обеспечения гражданского иска, с имущества лица, признанного банкротом;
допускают удовлетворение требований государства о взыскании уголовного штрафа с гражданина, признанного банкротом, приоритетно перед требованиями потерпевших;
при удовлетворении этого штрафа в рамках дела о банкротстве – препятствуют такому гражданину принимать эффективные меры, направленные на оперативную уплату штрафа в целях погашения судимости.
По мнению Верховного Суда, выявленный конфликт правовых подходов «выходит за пределы различного толкования норм действующего законодательства и связан с применением конституционных принципов уголовно-процессуального и гражданского права, коллизией их норм и определением справедливого баланса между публичными и частными интересами, что относится к исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации».
В связи с этим Экономколлегия ВС РФ попросила Конституционный Суд РФ проверить соответствие оспариваемых положений Закона о банкротстве, УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и Закона об исполнительном производстве статьям 35, 46, 52 Конституции РФ в части создания ими указанной конституционно значимой неопределенности в системе действующего правового регулирования.
Почему это важно
Юлия Иванова, управляющий партнер Юридической компании «ЮКО», отметила, что вопрос о судьбе уголовного ареста на имущество должника в банкротстве продолжает быть актуальным.
Несмотря на позицию, сформированную Конституционным Судом РФ (постановление от 31 января 2011 г. № 1-П) и Верховным Судом РФ (определение от 24 октября 2024 г. № 302-ЭС23-10298 (2)), что уголовный арест как средство обеспечения гражданско-правовых деликтных требований потерпевших/гражданских истцов следует судьбе самих этих требований и не может предоставлять им какое-либо преимущество в случае, если в отношении должника по таким требованиям введена процедура банкротства, по ее словам, до настоящего времени не получили разрешения два важных вопроса.
Во-первых, межотраслевая проблема на стыке гражданского (банкротного) и уголовно-процессуального законодательства. Закон о банкротстве указывает на снятие всех ранее наложенных арестов и не предусматривает сохранение уголовного ареста, наложенного для обеспечения деликтных требований, обусловленных причинением вреда преступлением. В то же время положения уголовно-процессуального законодательства не предусматривают такого основания для снятия ареста, как признание собственника арестованного имущества несостоятельным (банкротом). Отсутствие корреспонденции между банкротным и уголовно-процессуальным законодательством влечет фактическое сохранение уголовного ареста и после признания должника банкротом, указала она.
Это, в свою очередь, влечет следующие негативные последствия:
становится невозможным осуществление мероприятий, направленных на погашение требований кредиторов;
деликтные требования кредиторов получают не предусмотренный законом преимущественный статус по сравнению с требованиями других кредиторов.
Во-вторых, порядок снятия уголовных арестов при банкротстве должника – должно ли это осуществляться путем принятия отдельного судебного акта в рамках уголовного судопроизводства, либо сам по себе судебный акт о введении процедуры банкротства является достаточным основанием для снятия ареста, а отказ соответствующего органа публичной власти оспаривается в рамках административного судопроизводства, указала Юлия Иванова.
На основании ранее выработанного подхода можно предположить, что Конституционный Суд РФ устранит указанные вопросы исходя из недопустимости препятствия осуществлению мероприятий по погашению требований кредиторов в процедуре банкротства и придания особого привилегированного статуса уголовному аресту, который по существу перестает выполнять свои законодательно закрепленные цели в банкротстве.
Нюанс ситуации, также отметила Юлия Литовцева, партнер Юридической компании «Пепеляев Групп», заключается в том, что ранее в постановлении от 31 января 2011 г. №1-П КС РФ уже сформировал позицию по вопросу о судьбе уголовных арестов в банкротстве.
Из этого следует, продолжила она, что нормы об «уголовных» арестах в обеспечение гражданского иска — не повод нарушать специальный порядок удовлетворения требований в конкурсном производстве. И что уголовно-процессуальные нормы не могут создавать особые условия для кредиторов, в интересах которых по уголовному делу наложен арест.
Более того, в данном постановлении прямо сказано, что ч. 3 ст. 115 УПК РФ об отмене «уголовного» ареста наложившим его лицом, во взаимосвязи с п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве (о снятии всех арестов в связи с введением конкурсного производства) не предполагает сохранение такого ареста на имущество должника после введения данной процедуры, уточнила Юлия Литовцева.
Нюанс ситуации заключается в том, что ранее в постановлении от 31.01.2011 №1-П КС РФ уже сформировал позицию по вопросу о судьбе уголовных арестов в банкротстве. Из него следует, что нормы об «уголовных» арестах в обеспечение гражданского иска - не повод нарушать специальный порядок удовлетворения требований в конкурсном производстве. И что уголовно-процессуальные нормы не могут создавать особые условия для кредиторов, в интересах которых по уголовному делу наложен арест. Более того, в данном постановлении прямо сказано, что ч. 3 ст. 115 УПК РФ об отмене «уголовного» ареста наложившим его лицом, во взаимосвязи с п . 1 ст. 126 Закона о банкротстве (о снятии всех арестов в связи с введением конкурсного производства) не предполагает сохранение такого ареста на имущество должника после введения данной процедуры. С одной стороны, казалось бы, КС РФ может принять «отказное» определение в отношении запроса ВС РФ со ссылкой на ранее сформированный подход. С другой стороны, в запросе Верховного Суда речь идет о ряде банкротных норм, а не только ст. 126 Закона о банкротстве (еще и положения ст. 213.25). И их коллизии не только с ч. 3 ст. 115 УПК РФ, но и со значительным числом норм иных законов (ст. 103 Закона об исполнительном производстве; ч. 3 ст. 86 УК РФ; норм ст. 115 и 115.1 УПК РФ и даже положений Уголовно-исполнительного кодекса). Но в постановлений от 31.01.2011 №1-П и иных актах КС РФ уже обращал внимание на то, что однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом. Гражданско-правовые требования о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, вне зависимости от их рассмотрения в гражданском или уголовном судопроизводстве, разрешаются в соответствии с нормами гражданского законодательства. С учетом этом, высока вероятность того, что КС РФ с одной стороны признает все нормы конституционными и одновременно подтвердит приоритетность норм банкротства ввиду отсутствия правовых и иных оснований для различного подхода к удовлетворению требований кредиторов в зависимости от их процессуального статуса в уголовном деле или на стадии исполнения решения в пользу потерпевшего.
С учетом этого, высока вероятность, что КС РФ признает все нормы конституционными и одновременно подтвердит приоритетность норм банкротства ввиду отсутствия правовых и иных оснований для различного подхода к удовлетворению требований кредиторов в зависимости от их процессуального статуса в уголовном деле или на стадии исполнения решения в пользу потерпевшего, заключила она.
Александр Михайлов, партнер Юридической компании NERRA, подчеркнул, что в запросе Верховного Суда РФ в Конституционный Суд РФ поднимается давний и краеугольный вопрос соотношения публичных и частных интересов в деле о банкротстве: может ли требование государства по уплате уголовного штрафа удовлетворяться приоритетно по отношению к иным требованиям кредиторов к должнику, находящемуся в процедуре банкротства?
Дополнительно в запросе, по его словам, затрагивается проблема отсутствия эффективного механизма снятия арестов, наложенных в рамках уголовного дела, в процедуре банкротства в связи с наличием противоречий в уголовно-процессуальном и банкротном законодательстве. Формально все кредиторы обладают одинаковым набором прав и обязанностей в соответствии с принципом равенства кредиторов, однако на практике он не всегда реализуется. В связи с этим достаточно вспомнить институт налогового ареста (п. 2.1 ст. 73 НК РФ), в соответствии с которым имущество должника становится предметом залога, установленного в пользу налогового органа, исключительно на основании волеизъявления последнего.
Требования, обеспеченные налоговым арестом, обладают приоритетом в деле о банкротстве. Ранее ВС РФ в определении № 302-ЭС23-10298 от 24 октября 2024 г. высказал позицию, что кредиторы по обязательству из деликта (преступления) являются такими же кредиторами, как и любые иные; их требования подлежат удовлетворению в составе третьей очереди реестра. Речь, однако, шла про требования кредиторов-частных лиц, пояснил он.
В запросе Верховного суда РФ в Конституционный суд РФ поднимается давний и краеугольный вопрос соотношения публичных и частных интересов в деле о банкротстве. Может ли требование государства по уплате уголовного штрафа удовлетворяться приоритетно по отношению к иным требованиям кредиторов к должнику, находящемуся в процедуре банкротства? Дополнительно в запросе затрагивается проблема отсутствия эффективного механизма снятия арестов, наложенных в рамках уголовного дела, в процедуре банкротства в связи с наличием противоречий в уголовно-процессуальном и банкротном законодательстве. Формально все кредиторы обладают одинаковым набором прав и обязанностей в соответствии с принципом равенства кредиторов, однако на практике он не всегда реализуется. В этой связи достаточно вспомнить институт налогового ареста (п.2.1. ст. 73 НК РФ), в соответствии с которым имущество должника становится предметом залога, установленного в пользу налогового органа, исключительно на основании волеизъявления последнего. Требования, обеспеченные налоговым арестом, обладают приоритетом в деле о банкротстве. Ранее ВС РФ в Определении № 302-ЭС23-10298 от 24.10.2024 высказал позицию, что кредиторы по обязательству из деликта (преступления) являются такими же кредиторами, как и любые иные; их требования подлежат удовлетворению в составе третьей очереди реестра. Речь, однако, шла про требования кредиторов- частных лиц. ВС РФ отмечает, что, взыскивая уголовный штраф приоритетно перед другими кредиторами, государство с экономической точки зрения делает последних его фактическими плательщиками, что, на наш взгляд, недопустимо. Иными словами, предполагаемая уголовным штрафом цель наказания должника не достигается, происходит лишь ущемление интересов кредиторов должника, которые и несут бремя наказания. На это следует обратить внимание Конституционному суду РФ. Следует подчеркнуть, что аргумент о защите государственных (публичных) интересов в связи с получением денежных средств от уголовного штрафа бюджетом не является убедительным. Недополученные казной денежные средства будут направлены на погашение требований кредиторов и останутся в хозяйственном обороте, что впоследствии приведет к пополнению бюджета за счет налоговых отчислений с прибыли на ведение бизнеса и к развитию экономического оборота в целом. Предоставление очередного преимущества государству в процедуре банкротства может иметь деструктивный эффект, так как сделает положение реестровых кредиторов, часто не получающих какого-либо удовлетворения в процедурах банкротства, еще более шатким. Также надеюсь, что КС РФ наконец-то разрешит проблему уголовных арестов в процедуре банкротства, которые, как справедливо отмечает ВС РФ, блокируют возможность проведения мероприятий конкурсного производства. Необходимо предусмотреть механизм их снятия при введении в отношении должника ликвидационных процедур банкротства, в частности, путем внесения соответствующих дополнений в ст. 115 УПК РФ.
Ирина Колосова, старший юрист Правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры», также считает, что обращение Верховного Суда РФ в Конституционный Суд свидетельствует о признании системной проблемы, с которой практикующие юристы сталкиваются уже не первый год: коллизия между публичными интересами уголовного судопроизводства и задачами конкурсного управления ставит под угрозу эффективность института банкротства.
По ее мнению, позиция ВС РФ выглядит глубоко выверенной — суд не пытается выйти за пределы своей компетенции, но последовательно указывает на правовую неопределенность, которую он не может устранить без вмешательства КС. Логика ВС основана на принципах равенства кредиторов, недопустимости приоритетного взыскания и необходимости сохранения работоспособности процедуры банкротства. Поддержка этой логики Конституционным Судом может стать важным шагом к восстановлению системного баланса между публичными и частноправовыми интересами. Например, в условиях, когда аресты, наложенные в рамках уголовного дела, сохраняются неопределенно долго и блокируют реализацию имущества, процедура несостоятельности утрачивает свою правовую и экономическую эффективность.
Проблема усугубляется тем, что аресты, наложенные в интересах отдельных лиц или государства, по сути, препятствуют реализации принципа пропорционального удовлетворения требований всех кредиторов, посетовала Ирина Колосова.
В связи с этим профессиональное сообщество ждет от Конституционного Суда подтверждения приоритета конкурсной процедуры как механизма коллективного взыскания. Кроме этого, очень важно получить разъяснение о допустимости снятия арестов вне рамок уголовного дела, при условии признания должника банкротом. Надеюсь, что в результате будет сформулирована правовая позиция, в соответствии с которой федеральному законодателю надлежит внести в УПК и Закон о банкротстве необходимые изменения, устраняющие выявленную неопределенность. До внесения этих изменений КС, скорее всего, укажет на приоритет конкурсной процедуры как базового инструмента защиты имущественных прав всех кредиторов. Такое постановление позволит снизить риски фрагментарного подхода к защите прав участников процедуры банкротства и укрепит единообразие судебной практики.