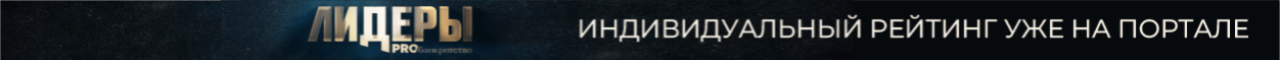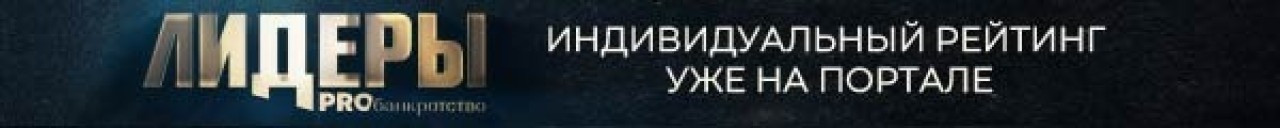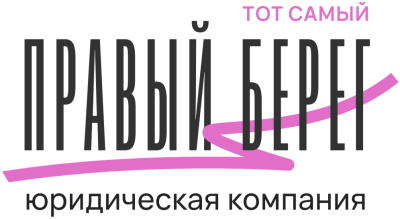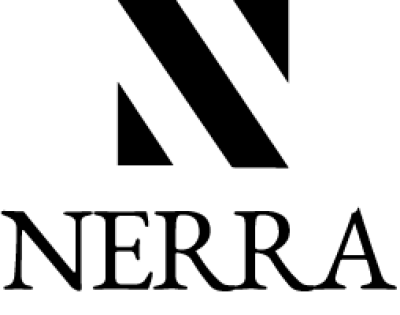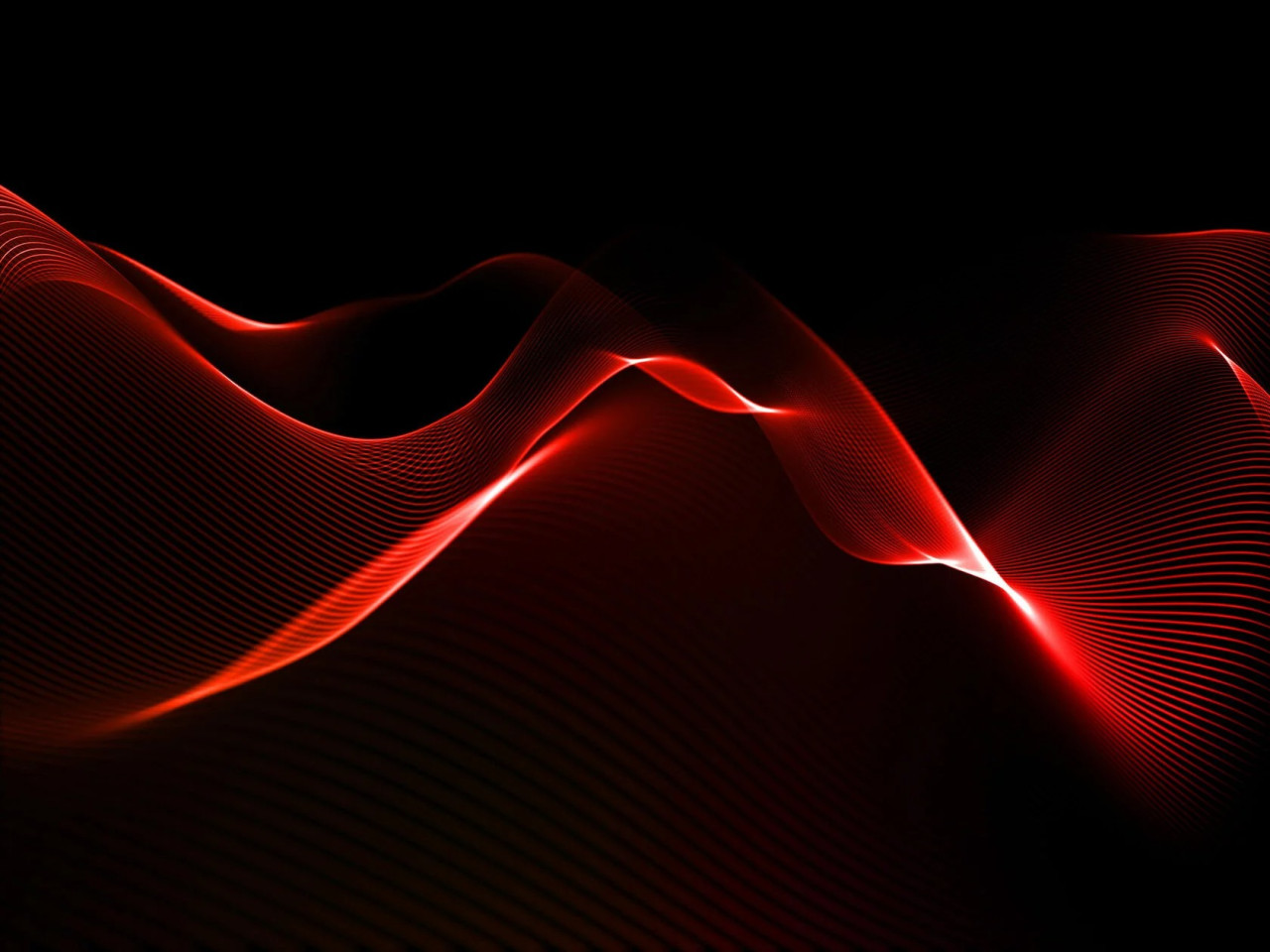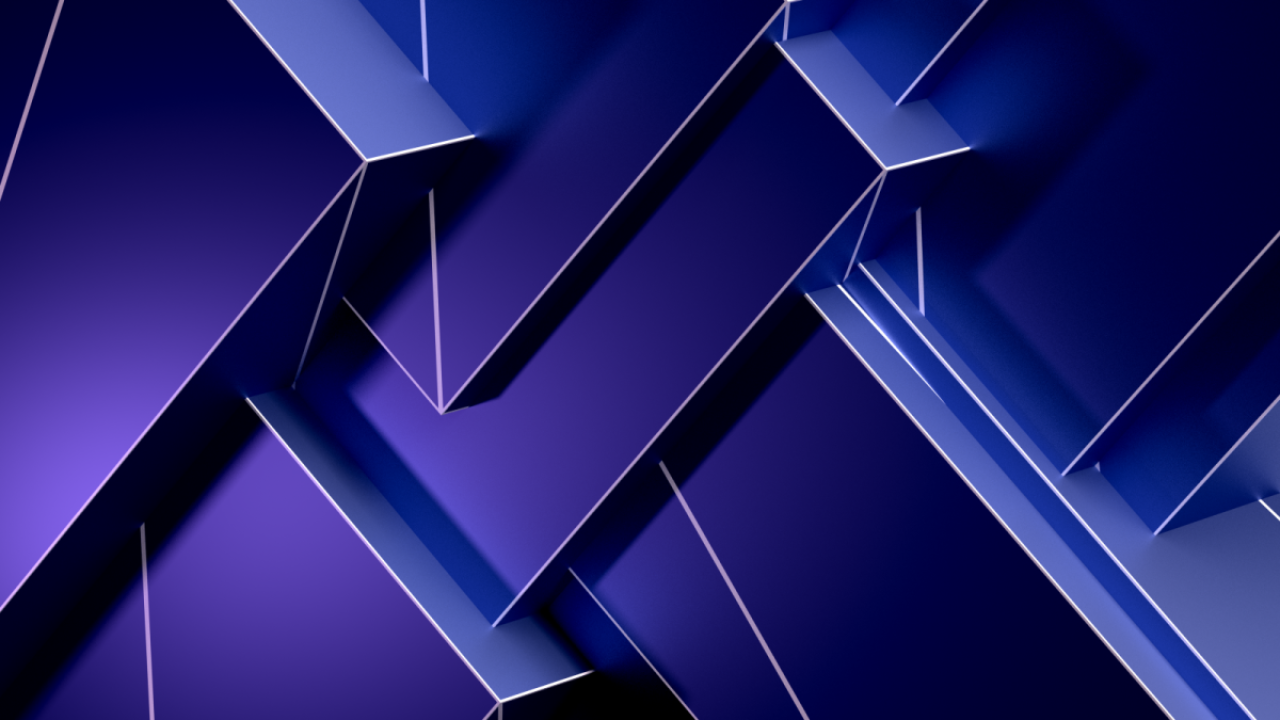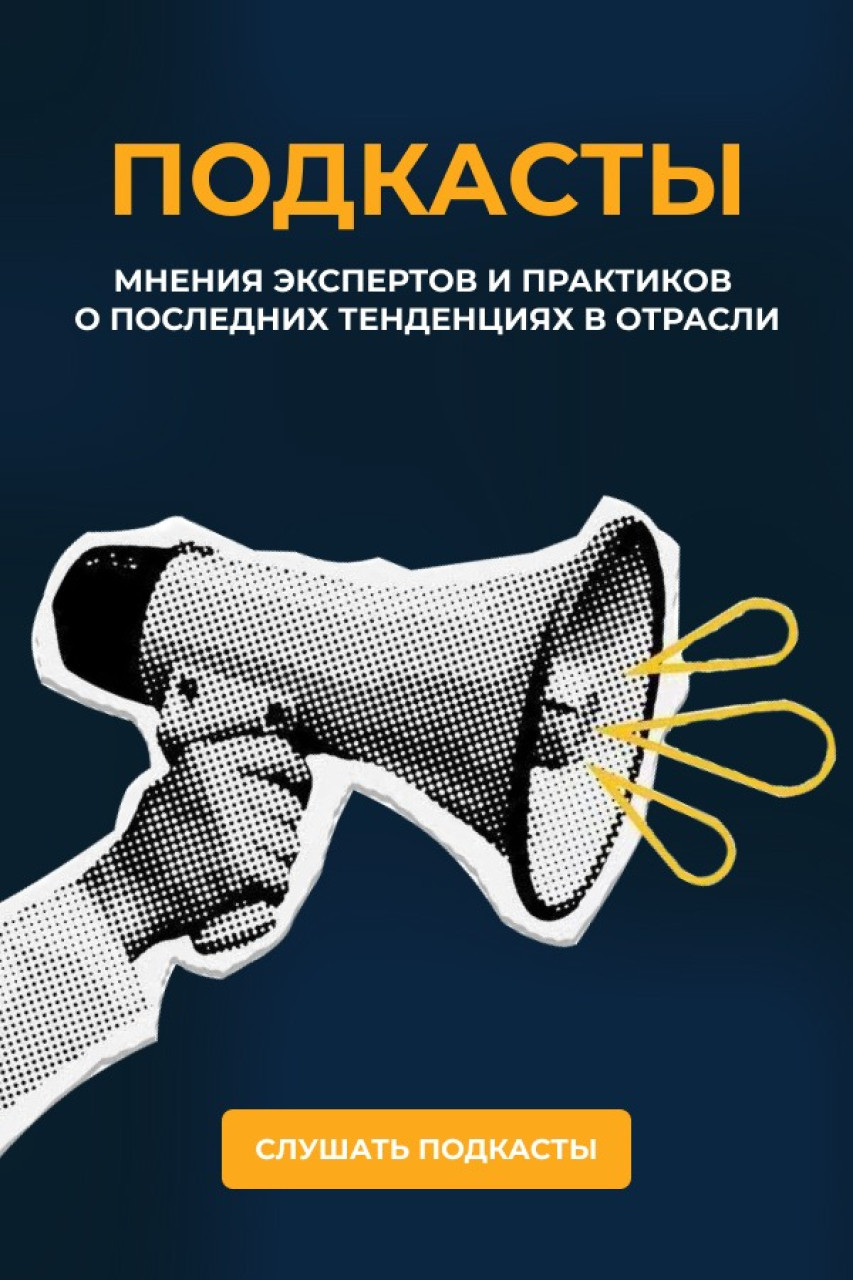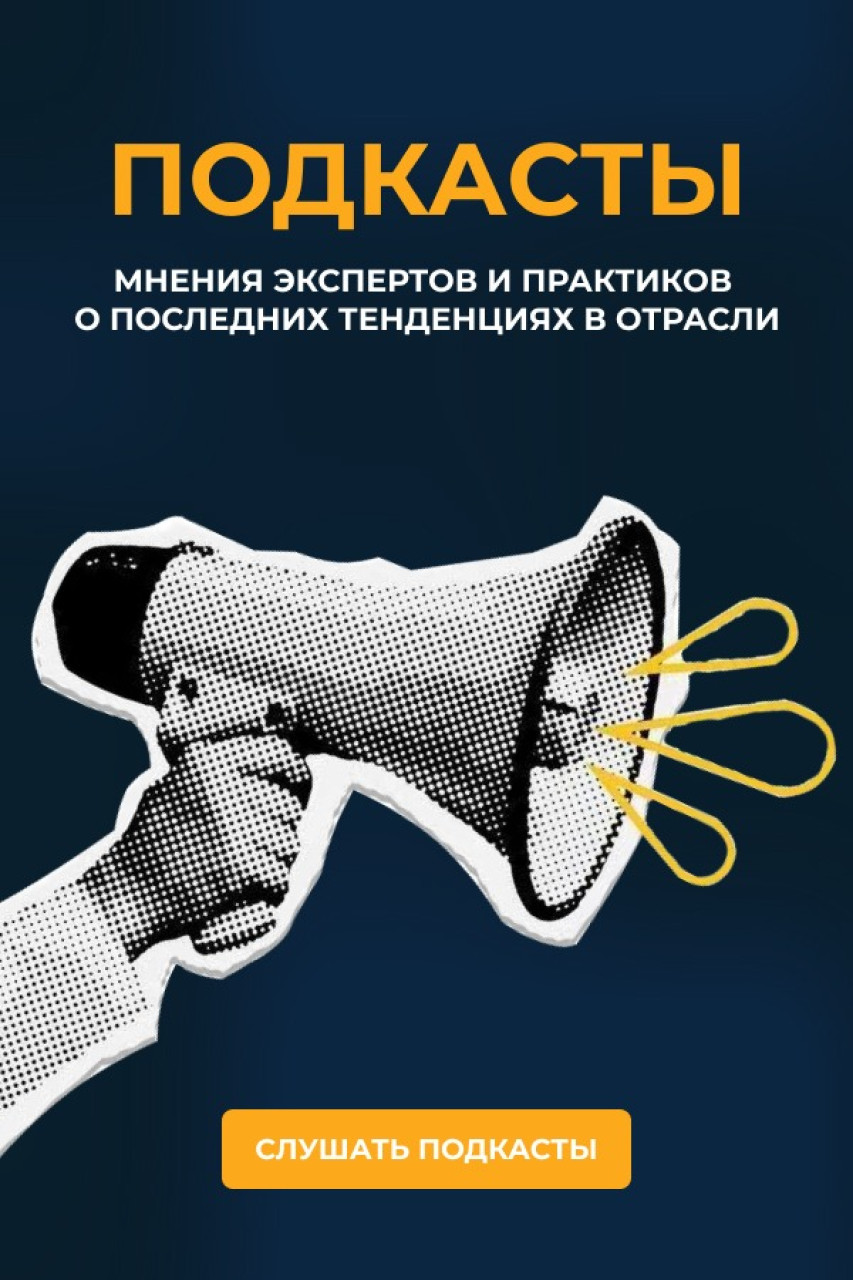Верховный Суд РФ поддержал судебные акты нижестоящих инстанций, признавших обоснованным заявление бывшего совладельца «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дмитрия Ананьева о банкротстве его супруги Людмилы Ананьевой. Суд установил наличие всех необходимых условий для введения процедуры банкротства, включая подтвержденную судебным актом задолженность свыше 500 тыс. рублей, непогашенную более трех месяцев, сообщил Интерфакс.
В июле 2024 г. суд включил в реестр кредиторов Людмилы Ананьевой требование заявителя на сумму 914,2 млн рублей. В январе 2025 г. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о начале процедуры банкротства, а 27 марта Ананьева была признана судом банкротом с открытием процедуры реализации имущества.
Людмила Ананьева, являющаяся гражданкой Республики Кипр и проживающая там более 5 лет, просила прекратить производство по делу о банкротстве. Однако российский суд установил наличие у нее жилплощади в Москве, регистрации в качестве налогоплательщика и ИНН, подтверждающих «центр жизненных интересов» должника в РФ.
В августе 2024 г. Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему Дмитрия Ананьева в объединении дел о банкротстве супругов в одно производство. В октябре суд признал обоснованными два требования Дмитрия Ананьева к Людмиле Ананьевой на общую сумму 8,6 млрд рублей, что было поддержано Девятым арбитражным апелляционным судом 11 декабря 2024 г.
Дмитрий Ананьев был признан банкротом Арбитражным судом Москвы в январе 2021 г. по заявлению ЗК «Настюша». В его реестр кредиторов был включен долг перед компанией в размере 2,9 млрд рублей.
В июне 2022 г. суд частично удовлетворил иск ПСБ, взыскав с экс-совладельцев банка братьев Ананьевых и ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей. Решение было оставлено в силе апелляцией и кассацией, а Верховный Суд РФ дважды отказал в его пересмотре.
В ноябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева, введя процедуру реструктуризации долгов. В мае 2024 г. он был признан банкротом с открытием процедуры реализации имущества. По данным финансового управляющего, в реестр кредиторов Алексея Ананьева были включены требования четырех кредиторов на сумму 204,4 млрд рублей, значительно превышающую размер его активов.
Дмитрий и Алексей Ананьевы, ранее контролировавшие ПСБ, были заочно арестованы в сентябре 2019 г. и объявлены в международный розыск. В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка с передачей в Фонд консолидации банковского сектора. Впоследствии ПСБ перешел в собственность Росимущества, став банком для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа, и находится под блокирующими санкциями США.
Почему это важно
В комментируемых судебных актах рассмотрены вопросы о выборе кандидатуры арбитражного управляющего, а также об объединении дел о банкротстве супругов в случае банкротства обоих супругов, отметила Ольга Елагина, адвокат, партнер Адвокатского бюро ZE Lawgic Legal Solutions.
По ее мнению, верной является позиция суда кассационной инстанции о том, что если у суда имеются разумные подозрения в независимости управляющего, предложенного заявителем, то суд всегда имеет право затребовать кандидатуру другого управляющего, в том числе посредством случайного выбора.
Важными выводами, сформулированными в постановлении суда кассационной инстанции, продолжила она, являются следующие: формальное отсутствие признаков заинтересованности, установленных п. 1 и 3 ст. 19 Закона о банкротстве, не означает, что отсутствует и фактическая аффилированность, поэтому суд вправе оценивать и обстоятельства, касающиеся фактической аффилированности, которая может поставить под сомнение независимость управляющего.
В последние несколько лет правоприменительная практика все чаще исследует обстоятельства, связанные не только с юридической аффилированностью сторон спора, но и с фактической аффилированностью. В таком направлении практика идет особенно в спорах в делах о банкротстве, в частности, в делах об оспаривании сделок, о привлечении к субсидиарной ответственности. Суды рассматривают вопрос аффилированности, не только опираясь на критерии, содержащиеся в законодательстве, но и принимая во внимание фактические обстоятельства дела, оценивая, в том числе, разумные и обоснованные сомнения в независимости того или иного лица, указала Ольга Елагина.
Вопрос о назначении управляющего отнесен к компетенции арбитражного суда, суд не должен допускать ситуации, при которых интересы финансового управляющего и отдельного кредитора могут попасть в ущерб интересам прочих кредиторов, должника, иных лиц, участвующих в деле, поэтому суд не связан исключительно волей первого заявителя, предложившего кандидатуру управляющего. При наличии обоснованных сомнений суд вправе произвести выбор управляющего путем случайного выбора кандидатуры управляющего. Что касается обстоятельств, связанных с тем, что должник проживает в другом государстве (в данном случае на Кипре), а производство по делу о банкротстве возбуждено и ведется в России, уже давно существует позиция высших судебных инстанций о том, что целью ведения производства по делу о банкротстве в России является защита интересов российских кредиторов при отсутствии у них эффективного доступа к той юрисдикции, где должно было по общим правилам осуществляться производство. Для этого суд должен определить, находится ли центр основных интересов должника в российской юрисдикции или за ее пределами, и в зависимости от установленного возбудить основное или вторичное производство по делу о банкротстве. Между тем, здесь вопрос касательно возбуждения производства по делу именно в России не оспаривался лицами, участвующими в деле.
В ноябре 2023 г. ВС РФ поставил точку в вопросе допустимости возражений против требования, которое подтверждено вступившим в законную силу судебным актом (дело № А40-63802/23), что в последующем получило отражение посредством изменения ст. 16 Закона о банкротстве, подчеркнула Малика Король, адвокат, партнер, руководитель практики разрешения споров Адвокатского бюро «ЭЛКО профи».
В связи с этим, пояснила она, доводы Людмилы Ананьевой о недопустимости включения требования супруга в РТК были обречены. Не спасла ситуацию и позиция о том, что в таком случае будет иметь место совпадение кредитора и должника в одном лице. Данный довод имел бы успех в случае доказанности, что судебный акт, на котором основано требование, принят в отсутствие должного исследования и оценки вследствие признания иска ответчиком.
Не вызывает вопрос и порядок реализации общего имущества супругов, на что обратил внимание суд кассации и дал соответствующие разъяснения: поскольку раздела имущества не состоялось и доля супруги не выделена в натуре реализация будет осуществляться в соответствии с п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве с последующим возвращением супруге должника причитающейся ей доли в общем имуществе. Для правоприменительной практики спор косвенно напоминает, при каких обстоятельствах возможно объединение двух дел о банкротстве супругов в одно. Возможно, в будущем законодатель усовершенствует правила совместного банкротства супругов и расхождения в этапах банкротства (процедур), вероятно, не будут являться препятствием. Тем не менее применительно к действующему законодательству суды дали объективную оценку и правильно применили нормы права.
Суды трех инстанций и Верховный Суд справедливо пришли к выводу, что «центр жизненных интересов» (COMI) Людмилы Ананьевой остается в России, несмотря на то что последние годы она проживает на Кипре. Ключевым аргументом стали крупные денежные операции со счетами в ПСБ и БМ банке в пользу связанных лиц, констатировал Давид Кононов, адвокат.
Отчасти можно сказать, что в этом кейсе прослеживается подход, сформированный в деле Westwalk. Суд указал, что активы, спорные сделки и экономический эффект расположены в РФ, поэтому процедура банкротства должна проходить в этой же стране независимо от фактического места жительства должника, и само по себе иностранное ВНЖ не спасает от банкротства в России, если кредиторы докажут, что основная имущественная «масса» и последствия сделок концентрируются здесь. Для бенефициаров, выведших капиталы за рубеж, это дополнительный риск – перевод активов или смена налогового резидентства не гарантируют иммунитет. Суд дополнительно в очередной раз подтвердил право одного супруга взыскивать долг со второго, даже если он возник из семейных совместных обязательств. Тем самым суды подтвердили право добиваться личного банкротства, даже если речь идет о долгах, возникших в результате раздела совместной собственности: основным остается факт неплатежеспособности и подтвержденный судом денежный долг.
По его словам, отдельная деталь – выбор финансового управляющего. Суд направил запросы в несколько СРО и утвердил кандидатуру, поступившей первой, посчитав такую случайную выборку достаточной для независимости. Попытка заменить управляющего на «более компетентного» справедливо отклонена, что демонстрирует нежелание вышестоящих судов допускать а) конкретный селективный подбор лояльных управляющих, б) сомнения в беспристрастном выборе нижестоящим судом управляющих при отсутствии очевидных сомнений в независимости управляющего.
Отказ ВС передать жалобу на дальнейший пересмотр фактически закрепил примененные критерии COMI (местонахождение активов, сделок и интересов кредиторов) как устойчивый ориентир, заключил он.
Лилия Тайгунова, адвокат, старший юрист Адвокатского бюро «S&K Вертикаль», отметила, что практика банкротства иностранных граждан в России начала формироваться с 2016 г. Тогда суды впервые сделали вывод о том, что Закон о банкротстве не связывает определение понятия гражданина-должника с наличием у него статуса гражданина РФ.
В прошлом году, напомнила она, ВС РФ определил правила банкротства иностранцев в России, ввел понятия тесной связи и центра жизненных интересов должника, что упростило кредиторам возможность вернуть активы (определение СКЭС ВС РФ от 8 февраля 2024 г. по делу № А40-248405/22 ). Вместе с тем перечень критериев является открытым и кредиторам необходимо собирать как можно больше доказательств связи должника с Россией, порой достаточно креативных (см., например, дело о банкротстве турецкой компании Gemont; дело №А65-19059/2022), указала она.
В настоящем споре суд первой инстанции учел формальные признаки «центра жизненных интересов» Л.Н. Ананьевой в России (регистрация должника в качестве налогоплательщика; наличие адреса регистрации в Москве). Наличие у должника иностранного гражданства не препятствует инициированию процедуры в России. Как следует из судебных актов апелляции и кассации, в дальнейшем вопрос возможности открытия процедуры в России не рассматривался. Суд в данном споре продолжил формировать практику по банкротству иностранных граждан в России, достаточно скупо высказался о признаках «центра жизненных интересов». Помимо отраженных в судебных актах формальных признаков, на связь с отечественной юрисдикцией очевидно указывают зарегистрированный брак, наличие активов в России, контроль супруга над крупными российскими компаниями. Кроме того, требования к Л.Н. Ананьевой, в том числе, возникли из реституционных требований по оспариванию сделок по банковским операциям в российских банках, КДЛ которых являлся ее супруг. Ввиду отсутствия развернутой мотивировки нельзя сказать, что акты по этому делу являются практикообразующими, однако их следует учитывать как некий вектор развития судебной практики.
По мнению Андрея Дроздова, адвоката Адвокатской конторы «Аснис и партнеры», суды руководствовались формальными критериями наличия признаков банкротства, а также основывались на подтверждении этих критериев вступившим в законную силу судебным актом, что для текущей практики является последовательным.
Однако не все доводы заявителя были оценены судами: заявитель указывала на направленность взыскания денежных средств из состава совместно нажитого с супругом имущества в пользу той же совместно нажитой имущественной массы, а также на отсутствие в связи с этим экономического смысла, в этой части доводы остались без оценки, указал он.
Положительно стоит оценить правовую аргументацию суда округа по исключению конфликта интересов в вопросе назначения управляющего, на что неоднократно указывал ВС РФ. Однако с учетом актуальности проблемы в ряде банкротных дел такая позиция дополнительно будет ориентировать суды первой инстанции на необходимость учитывать не только волю кредиторов, но и объективные сомнения в независимости той или иной кандидатуры. Кроме того, эта позиция продиктована и необходимостью соблюдения баланса прав и интересов как кредитора, так и самого должника, что невозможно при заинтересованности управляющего. Правовая позиция суда округа относительно невозможности объединения дел является последовательной и принята в развитие подхода ВС РФ, АСМО сослался на некоторые из судебных актов ВС.
По мнению Александра Коржана, арбитражного управляющего Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих», суды по делу о банкротстве Людмилы Ананьевой последовательно и обоснованно реализовали положения законодательства о несостоятельности, подтвердив наличие признаков неплатежеспособности должника и достаточность основания для введения процедуры реструктуризации долгов.
Требование Дмитрия Ананьева, продолжил он, несмотря на его статус супруга, было подтверждено вступившими в силу судебными актами, признавшими недействительными сделки и обязавшими Людмилу Ананьеву вернуть в конкурсную массу существенные суммы. При этом доводы о невозможности взыскания между супругами были справедливо отклонены, поскольку институт банкротства не исключает возможности взыскания задолженности между бывшими членами семьи при наличии соответствующих оснований, установленных судом, с этим нельзя поспорить.
Однако следует учитывать, что инициаторами мероприятий, направленных на возврат активов в конкурсную массу, выступают, как правило, финансовые управляющие супругов-должников, поэтому в рассматриваемом деле значимым представляется именно их профессиональное видение обстоятельств спора, поскольку именно оно позволяет достигать цели процедур банкротства — баланса интересов всех участников. При этом нельзя исключить и возникновение потенциального конфликта интересов между финансовыми управляющими в параллельных делах супругов-должников, подчеркнул Александр Коржан.
На мой взгляд, в подобных случаях, при условии совпадения применяемых процедур (что произойдет рано или поздно) целесообразно повторно рассмотреть возможность объединения дел о банкротстве супругов с целью «стабилизации» конфликта интересов и упрощения порядка реализации имущества и эффективного удовлетворения требований кредиторов. Да, суды обоснованно прибегли к механизму случайной выборки для исключения конфликта интересов и обеспечения независимости процедуры. Доводы о недостаточной квалификации утвержденного управляющего были проверены и не нашли подтверждения. Вместе с тем, как указано выше, такой подход хоть и достаточно эффективный, исключающий конфликт интересов между финансовым управляющим, должником и кредиторами, одновременно не исключает возможного конфликта интересов между финансовыми управляющими в параллельных делах супругов-должников, что в результате приводит к затягиванию дел о банкротстве должников-супругов. Особо важно, что суды признали «центр жизненных интересов» Ананьевой находящимся в России, несмотря на ее проживание на Кипре, исходя из совокупности фактических обстоятельств: наличия недвижимости, налогового резидентства и иных устойчивых связей. Такой подход отражает современное понимание принципа подведомственности дел о банкротстве граждан, когда «формальное» место жительства должника не всегда определяет территориальную подсудность и компетенцию отечественного суда.
«Вне сомнений, определение Верховного Суда об отказе в передаче кассационной жалобы к рассмотрению фактически закрепило правовую позицию нижестоящих судов как соответствующую нормам материального и процессуального права. В результате формируется важный судебный прецедент, подтверждающий возможность инициирования процедуры банкротства в отношении лица, формально проживающего за пределами РФ, но сохраняющего здесь деловую и экономическую активность. В то же время, с учетом наличия взаимосвязанных производств в отношении супругов, на мой взгляд, целесообразно в дальнейшем вернуться к рассмотрению вопроса об объединении дел, особенно в случае совпадения процедур, чтобы минимизировать риски конфликта интересов между финансовыми управляющими, которые в настоящий момент в сфере банкротств-граждан имеют место быть, чем обеспечить более эффективное проведение процедур банкротства», – заключил он.